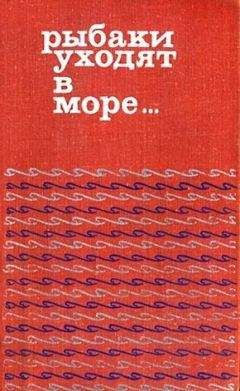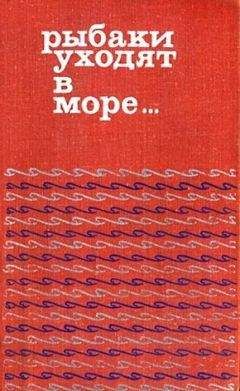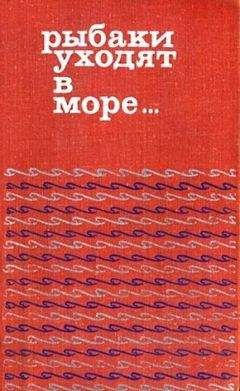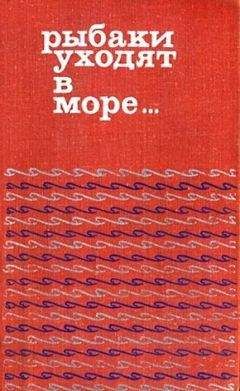Так они играют каждое утро, и их игра не теряет прелести новизны. Они нежатся в полумраке, переполненные радостью, любовью и счастьем, и не спешат впускать солнце.
— Ну что, встаем?
— Включи лучше музыку, — просит она.
Приемник стоит рядом с тахтой, чтобы включить его, ему не надо даже отворачиваться от возлюбленной, но он все-таки медлит, не в силах сразу выпустить ее из объятий.
— Мы хотим проснуться под музыку, — лепечет она и закрывает глаза.
Тогда он приподнимается и настраивает приемник на станцию, которая в это время суток передает музыку. И утренняя игра продолжается.
— Мы с ним так выросли, — шепчет она, улыбаясь ему. — Тебе нас теперь не обнять.
— Вы с ней выросли, — поправляет он, и его улыбка отражается в ее глазах, улыбка у них тоже общая.
— А если будет мальчик?
— Нет, мы хотим девочку. Слышишь, любимая, ты должна родить мне девочку, точно такую же, как ты сама. Ведь я не видел тебя, когда ты была маленькая.
— Я тебе рожу сколько угодно девочек, но не в этот раз. Сколько ты хочешь?
— Десять, — отвечает он и прикасается губами к ее уху.
— Тогда я все время буду противной и толстой, как сейчас, и даже гораздо толще, потому что девочки намного крупнее мальчиков. Помнишь, какая я была тоненькая?
— Ты всегда была, есть и будешь такой, какая мне нужна.
— Даже когда мы состаримся?
— Мы никогда не состаримся.
— А если?
— Ты всегда будешь такая же.
— О! — Она крепко прижимает его к себе. — Любимый, я не помню, что было до того, как я тебя встретила. День или ночь?
— Ни то, ни другое.
Он целует ее в ухо.
Они лежат молча, на грани яви и сна, а музыка сливается с нагретым полумраком в тихую ласку, и действительность почти не доходит до их сознания. Неожиданно грубый и громкий мужской голос врывается в их крохотный мир гармонии и покоя. Какой-то субъект на той далекой станции решил, что может сообщить разным людишкам, живущим на краю света, нечто более важное, чем музыка. Возможно, это один из тех жестоких властителей мира, которые верят в войну и деньги. Мужчина выключает приемник.
— Мы хотим пить?
— Как ты, так и я.
— Мы хотим кока-колы, — говорит он, приподнявшись.
— Только не сейчас, — просит она, ей необходимо еще раз обнять его и прижаться к нему всем телом, прежде чем утро разлучит их наготу.
И когда наконец он нагой встает с их ложа, она смотрит на него влажными от слез глазами.
До того, как они встретились, она и не знала, что тело мужчины может быть так красиво, она не помнит, знала ли она вообще хоть что-нибудь. Нет, до того не было ничего, потом — все.
Потому что все люди улыбаются ей теперь, когда она на них смотрит.
Потому что ночь слилась со днем, словно два изумительных звука. Потому что есть он, есть она, потому что они — всё.
— О чем ты сейчас думаешь?
Он приносит с балкона кока-колу.
Если один из них о чем-то задумается, другой всегда чувствует это.
— О тебе.
— А что ты обо мне думаешь?
— Что я тебя люблю. Что мне хотелось бы умереть первой, если бы так…
— Т-с-с! — Он наклоняется и поцелуем заглушает слова, которые она хотела сказать.
— Мы не умрем. Мы будем жить, жить, залитые солнцем. Смотри, как хорошо на улице — солнце, теплынь, тишина. Что мы будем делать, когда выпьем кока-колу?
— Спать.
— Соня.
— Ну, хорошо, тогда, может быть, мы оденемся и я приготовлю кофе, а тебе придется сбегать за чем-нибудь вкусненьким.
Он сбрасывает халат и забирается под одеяло.
— А чего нам хочется?
— Мороженого, нет, впрочем, да, мороженого и пирожного со взбитыми сливками.
— И кофе?
— Конечно. Тебе холодно, мой мальчик? Сейчас мы тебя согреем. — Она притягивает его к себе и обвивает руками. — Любимый…
— Мы собрались пить кока-колу…
— Сейчас выпьем. Но сперва мы должны тебя согреть, чтобы ты не простудился.
— Уже десять, — напоминает он.
— Для нас времени не существует, — нежно отвечает она, глядя ему в глаза. И они забывают про кока-колу.
— Как ты думаешь, это не опасно? — спрашивает он, лаская ее.
Тонкими пальцами она гладит его затылок, прижимается к нему, горячая, охваченная страстью, как и он.
— Не знаю, любимый, наверно, следовало бы подождать его.
Он продолжает ласкать ее.
— Она уже большая, — шепчет он.
— Не она, а он, — поправляет она, смеясь. — Наверно, это не опасно, если мы будем осторожны. Я думаю, не опасно.
— Давай подождем, — говорит он и целует ее. — Так будет лучше.
— Да, наверно. Тогда я опять стану худенькой, тогда… О, тогда я буду такой доброй, что ты забудешь, как долго нам пришлось ждать.
Он продолжает твердить, что им лучше подождать, они ласкают друг друга, жар ее тела согревает его прохладную кожу, и, наконец, слова становятся бессмысленными, потому что больше они не могут ждать.
* * *
Утро улыбается дому в глаза, и они открываются один за другим. Дом кивает головой соседям. Прежде всего большому дому, стоящему на противоположном углу, — это весьма уважаемый дом, в нем есть магазин с высокими окнами, до полудня в магазин то и дело заходят люди. Обменявшись утренним приветствием с этим уважаемым соседом, дом кивает и остальным, а потом, мигая, смотрит на улицу, которая уже давным-давно проснулась и грохочет колесами автомобилей. Тень дома падает на мостовую, беспомощная, точно ночной тролль при свете дня, но утро спешит, и тень уменьшается, пока наконец не скрывается в доме, спасаясь от дневного света в его нагретых солнцем стенах. К остановке подходит автобус, люди входят через переднюю дверь, выходят через заднюю.
Дом кивает и автобусу. Ведь он тут ежедневный гость, так сказать, постоянный работник и этой улицы, и этих домов, совсем не то, что машины, которые проезжают мимо. Разумеется, кроме машин, живущих на этой улице, но те уже давно стали неотъемлемой частью своих домов. У нашего дома машины нет, пока нет. Зато у него много голубей, они гордо восседают на его крыше, и их пестрые крылья блестят на солнце.
Жильцы дома позволяют детям кормить голубей крупой. На единственном небольшом деревце, растущем в саду, прикреплен ящичек, выстланный мхом и травой, он повешен специально для дроздов. Сегодня поутру один влюбленный дрозд обнаружил это восхитительное местечко. Он тут же объявил дерево своей собственностью на все лето и заманил в жены красивую дородную дроздиху. Из них вышла образцовая пара — очень музыкальная и весьма деятельная. Время от времени дом поглядывает на дроздов, но они, поглощенные своим делом, не замечают этого. «Жизнь, жизнь!» — поют дрозды во все горло, надувая грудь. Так звучит их песнь. «Жизнь, жизнь!» — поют они, и не слушать их невозможно. Впрочем, вряд ли это можно назвать настоящей песней. Становится жарко. Дождевые черви, все утро ползавшие по траве, спешат укрыться от солнца, кроме тех, которым посчастливилось оказаться в тени. Мухи совсем обнаглели от радости. Они считают, что это благословенное тепло настало исключительно ради них. Из помойки позади дома высовывается сытая крыса и глядит по сторонам. Ей по опыту известно, что опасность может подстерегать ее всюду как ночью, так и днем. Днем кошкам помогают люди. Крыса не уверена, что ей следует покидать эту помойку. Но выдержки у нее не хватает, и она мчится стрелой. Она знает другую помойку, в другом дворе. А двери дома то и дело открываются и закрываются, открываются и закрываются. Один выходит из дома, идет к калитке и громко хлопает ею, как Лина, другой осторожно закрывает ее, так что петли даже не скрипнут, как учительница с верхнего этажа, окна которой выходят на улицу. Дом смотрит им вслед и знает, что все они вернутся к нему. Он с одинаковым равнодушием принимает своих жильцов и расстается с ними. Жильцы его не очень трогают, главное то, что он стоит на солидном фундаменте и бетон его стен внушает доверие.
Дом греется в лучах утреннего солнца, белый дом с красной крышей, он твердо стоит на собственной земле и на собственном фундаменте и немного напоминает добропорядочного бюргера, который занимает прочное положение, имеет кое-какие сбережения в банке и в хорошую погоду по воскресным дням прогуливается вдоль главной улицы, а на лице у него написано чувство ответственности, и брюшко заметно выдается вперед. Но бюргер — это человек, а дом — всего лишь дом. Крыша его поднята к своему лоскутку неба, совсем как шляпа бюргера, но только дом не верит в бога и не ходит в церковь даже на рождество. Дом снова, мигая, смотрит на улицу, которая в это ясное утро кажется необычайно оживленной.