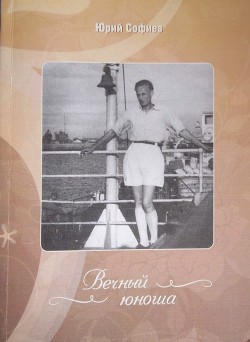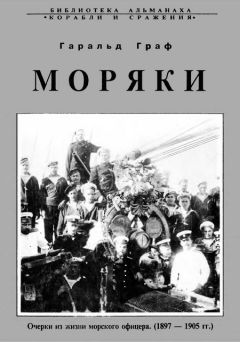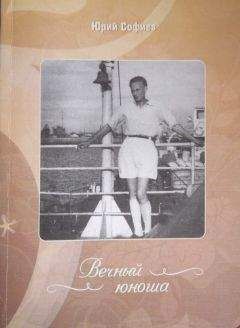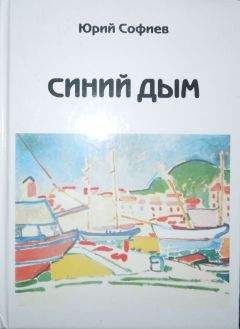И вместе с тем, у меня нет ненависти к врагу, не думай, что я какой-то христосик, но когда я вижу пленных, которых гонят в одном белье под холодным осенним дождем, когда с дикой жестокостью добиваются, кто среди них комиссар и коммунисты, чтобы расстрелять или повесить их первыми — стыд за человека, ставшего зверем, и возмущение сжигают меня, гнев и сочувствие и жалость к побежденным, и такая душевная подавленность, такой, гнет охватывают меня, а выхода я не вижу.
У меня очень смутное представление об их идеалах, но ясное сознание, что ров, вырытый историей между нами, непроходим.
Для них я «барчук», чужой, враг по своему классовому происхождению, меня пугает в равной мере и их беспощадная жестокость, и их ненависть. Ожесточение гражданской войны ставит под сомнение все человеческое.
А во всем остальном я остался, пожалуй, прежним. И все тем же одержим — бегством от людей в Природу. Хочется уйти в лес, на берег синего озера, в тайгу. Бродить по этому зеленому царству. К войне у меня отвращение. Не думай. Я не трус. В честном открытом бою друзья находят, что я веду себя достойно.
И знаешь, что меня утешает?
Мир, вечно юный и вечно прекрасный, постоянное соприкосновение с природой.
Не кровь и ненависть, а эти звезды,
Покуда утешительная тишь,
Солдатской песни грусть. Полынный воздух
Ночных степей. Вкруг озера камыш.
Как хочется побродить по родным просторам с ружьем, только направленным не против человека.
Помнишь, как я мечтал спуститься на лодке по Чусовой, Белой, Каме, Волге до астраханских плавней.
На дне переметной сумы вожу изумительные стихи Гумилева.
Может быть, я и есть
«Тот безумный охотник.
Что, взойдя на нагую скалу,
В диком счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу».
— Эх, — обычным своим издевательским тоном сказал форме, — доморощенный Руссо, тебе, я вижу, по-прежнему хочется встать на четвереньки и убежать в лес! Этим всерьез нельзя жить! Чушь! Глупая романтика! Эх, ты, «толстый нос»! — Это было любимое, еще школьное, выражение Бориса, когда он хотел сказать, что я порю глупость.
— Ну, не сердись! Вот нам с тобой по 19 лет, а до чего трудно просматривается впереди эта самая жизнь.
В это время мы вышли на мою улицу и вскоре подошли к моей калитке.
— Эх, Юра, в грубые времена мы с тобой живем, а может быть, в великие? Или ни черта мы с тобой еще не понимаем?
А я рад, что мы с тобой встретились, — и Борис обнял меня.
***
Молодые Бурьяновы пригласили меня покататься на лодке по Кубани.
Борис с Ольгой. Надя с Гришей — великовозрастным гимназистом выпускного класса.
Гриша был красивый еврей, сын аптекаря. Самоуверенный, развитый юноша.
— Кончу учиться, — сказала Надя, — выйду за него замуж.
Я как-то спросил о нем Бориса.
— Да, кажется, жених! Надя у нас человек практичный, будет женой аптекаря.
Катя, покапризничала, но решила поехать тоже.
Взяли две лодки.
— Вы с кем? — спросила Катя.
— Поедет с нами! — сказал Борис.
— А Катя?
— Пускай садится тоже.
Надя села за весла:
— Люблю грести!
Гриша за руль.
Я, было, хотел сесть тоже за весла, но Борис попросил:
— Дай, сяду я.
Мы с Катей сели на носу лодки. Ольга взяла рукоятку руля на корме. Лодка заскользила по воде. Катя опустила руку и повела ее бороздой.
— Мешаешь движению, — буркнул Борис. Катя еще глубже опустила руку в воду.
— Я тебя выброшу, индюшка, не мешай! — Катя шалила, но с каким-то странным для девочки надрывом.
Разговор у нас не клеился. Борис молчал. Молчала и Ольга. Я пытался развеселить Катю разговорами. И сам мучительно чувствовал, что болтовня была натянутой, серой, неостроумной и скучной. И Катя не шла мне на помощь.
Я ловил на себе взгляд Ольги и мне казалось, что она чувствует мою неловкость, и от этого еще больше смущался.
На нас наплывал остров, заросший деревьями и кустарником.
— На острове очень много змей, — сказала Катя, — он и называется Змеиным. Я на него сходить не буду.
— А я хочу сойти на берег, — сказала Ольга, — Юра, Вы пойдете со мной?
— С удовольствием!
Лодка Нади и Гриши ушла вперед. Они помахали нам и стали огибать остров. Борис подвел лодку к удобному месту. Я выпрыгнул на берег и протянул руку Ольге.
— Я посижу, почитаю, — и Борис вынул книгу из кармана пиджака.
— Вот это здорово! А я? — воскликнула Катя.
— Ты же боишься змей. Ну, и посидишь.
Катя надула губы. Но Ольга, не отпуская моей руки, сказала:
— Пойдем, пойдем, — и потянув меня, побежала по тропинке.
Тропинка была узкая, она вилась среди кустарника и вскоре вывела нас на открытое место. Мы пошли рядом.
— Осторожно, Юра, здесь и в самом деле много змей!
— Авось не укусят, вот только неловко перёд Катей.
— Бросьте думать об этой взбалмошной девчонке весело сказала Ольга.
— Я вижу, что вы не любите светской болтовни…
Я, было, попытался сказать, что за эти годы отвык от общества, да и в силу своего характера мне очень трудно побороть смущение и неловкость.
— Я Вас очень давно знаю, Юра. Не удивляйтесь, Борис очень много о Вас рассказывал, о школьной дружбе, из всех его кадетских товарищей. Вы единственный человек, с которым он очень глубоко связан. И знаете, верно рассказывал. Я Вас сразу узнала. Вот почему в ту ночь, когда Вы пришли, я руку Вам дала, уже как старому другу. Вы очень близкий человек Борису, будете и мне.
Он мне рассказал и о вашем недавнем ночном разговоре. А для меня вы не герои, чистые мальчишки, которые бросили все и идете на смерть.
— Герои, — усмехнулся я, — ну это сильно сказано. Я видел очень бесстрашных людей и все-таки думаю, даже в самые трудные моменты в человеке живет надежда, вера, ощущение, что он будет жить.
Идти на смерть, с осознанием, что будет другой исход, исключен — для этого, вероятно, нужна очень большая сила духа. Я этого не пережил и не знаю, что буду испытывать, если меня поставят к стенке.
В самые опасные моменты меня никогда не покидала уверенность в торжестве жизни. Вероятно, я очень люблю жизнь. Потому я не чувствую «величия смерти», она мне кажется всегда безобразной, нелепой, немыслимой, унизительной для человека. И потом, Оля, я думаю, что я не тот герой, о подвигах которого вы говорите.
— Змея! — крикнула Оля и отпрянула назад.
В шаге от нас, свернувшись кольцом, с высоко поднятой головой, в угрожающей позе, лежала гадюка. Злобные глаза ее были устремлены на нас. Она мгновенно развернула кольцо и уползла в сторону.
Ольга несколько мгновений стояла, прижавшись ко мне.
— Пойдемте отсюда!
И мы повернули назад, к лодке.
(Из тетради без номера с названием: «Черновые материалы» и эпиграфом — «Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезнет, — одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь», Конст. Паустовский. Снова идет рассказ «Белая акация», только кое с какими добавлениями. — Н. Ч.).
Отец
…Приехал я из Ростова-на-Дону, выписавшись из госпиталя, где пролежал почти два месяца. За эти два месяца я переболел приступами возвратами тифа, а затем, не выходя из госпиталя, перенес и свиной тиф. Я выжил.
Поезд нес меня, впервые в жизни, через кубанские станицы, белые от цветущей акации.
Страшно худой, с матово-белым лицом, еле держась на ногах, я стоял у окна и с жадностью вглядывался в новые для меня видения мира.