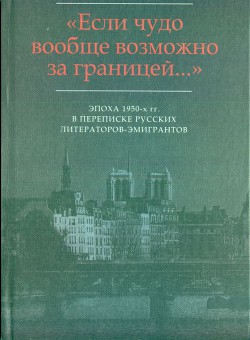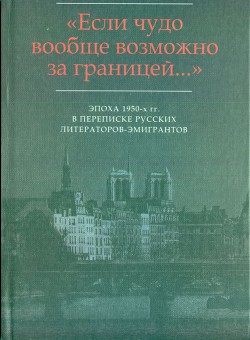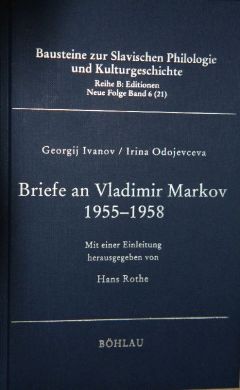Ваш приезд в Париж, к сожалению, не состоялся из-за того, что предполагавшийся конгресс не вышел. Может случиться, что Вы все-таки приедете сюда по какому-нибудь другому случаю. Разумеется, если бы так случилось, был бы очень рад с Вами наконец-то лично увидеться, пригласить Вас к себе.
На этот случай прошу Вас взять тот сборник Заболоцкого, чуть ли не единственным экземпляром которого Вы располагаете. Такую ценность было бы безумием доверить почте, даже заказной — отлично это понимаю. Но когда Вы будете здесь — я бы хотел воспользоваться случаем и списать те стихи, которые не вошли в Ваши «Приглушенные голоса» и не появились в печати (хотя и «Торжество земледелия» не удается найти, ибо те номера «Нового мира» [96], где оно появилось, мне пока не удалось обнаружить в Париже). Не очень верится, чтобы они могли появиться в СССР теперь, при «перемене курса» [97].
Был бы очень рад узнать Ваше мнение о шансах и перспективах свободы в СССР. Тут у нас имеется недавно вышедший сборник «Литературная Москва» [98] — объемистый и с подписями Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого, Мартынова и т. д. Но увы — все тексты, подписанные этими громкими именами, подстрижены под гребенку, gleichgeschaltet [99], дидактичны, осовечены до тошноты. Если так, то уж почти предпочитаешь доброе сталинское время, когда все откровенно молчали, а всякие там Симоновы и присные им предавались казенным славословиям — хоть никакого соблазна в этом не было.
Кроме «Гурилевских» (которых нет под рукой), еще хотел бы оговорить с Вами вопрос о поэзии «не лирической» — но это до следующего раза, теперь не хватит времени. Вкратце — вот в чем дело.
В противоположность мнению Адамовича, признающего только поэзию «простую» и лирическую — истекающую прямо из сердца и пр., напр<имер>: «и друга лучший друг забудет» [100], «белеет парус одинокий в тумане моря голубом» и т. д., я признаю также и, напр<имер>, Набокова— Сирина, Хлебникова или Цветаеву и вообще весь веер возможного разнообразия стилей. Для меня поэзия — именно «езда в незнаемое» — реализация такого, чего еще не было, каким бы оно ни было.
В связи с этим — интересный вопрос о судьбах поэзии в будущем. Живопись дошла до беспредметности, и не без успеха — будущее, по-видимому, в безграничных, неисчерпаемых возможностях беспредметного воображаемого мира.
Но поэзия упирается в слово, которое (даже независимо от синтаксиса или от его отсутствия) есть уже предмет. Как же тут быть? Остановка — смерти подобна — надо идти вперед. Но за пределами слова, пусть заумного — уже не поэзия «свиристели» Хлебникова, напр<имер>, или «грустилища» — еще слово, а «дыр бул щыл» Крученых уже не слово, но… еще ли поэзия?
А вопрос этот меня мучит в связи с тем, что я вижу у больших поэтов нашей эпохи настоящее замешательство и незнание, куда идти. М. б., к юродству или через юродство несерьезной поэзии Г. Иванова или Заболоцкого можно куда-то выйти?
Все это вопросы… Подумаем… Да и может ли идти поэзия от теории к практике, а не наоборот?
Пока приходится кончать. Заранее сожалею об огорчении, которое Вам причинил, но писать Вам неправду было бы, м. 6., еще более некрасиво и… не нужно. Утешьтесь тем, что не одного Вас «разделываю» в письмах — у Вас есть товарищи по несчастью.
Искренне Вам преданный
Ваш Э. Райс
7
Париж 17–10 < 1956 г.>
Дорогой Владимир Федорович.
Мне так и не удалось найти в Париже номер «Опытов», в котором обсуждалась книга Адамовича и из-за которого Вы имели неприятности [101]. Все-таки, мне кажется, что в делах такого рода лучше «ковать железо, пока горячо» и не чересчур откладывать свое противодействие. Поэтому, впредь до нахождения нужного номера (я думаю, что С.К. Маковский его для меня в конце концов найдет, хотя я ему, разумеется, не сказал, для чего он мне нужен), я бы хотел сообщить Вам то немногое, что я понял из Вашего последнего письма и что, будем надеяться, может пока все-таки быть Вам полезным.
Не знаю и не «чувствую», чтобы Вас могли «попереть» из литературы. Скорее наоборот, Ваши затруднения могут оказаться «кризисом роста» Вашей литературной карьеры, и встревоженность Адамовича, по-моему, скорее касается именно Вашей ценности, соперничества которой он боится, чем Вашей бездарности.
Пока я сам не мог прочесть нужного номера «Опытов» и составить себе собственное мнение о происшедшем, судя по Вашему рассказу, похоже гораздо больше на то, что Адамович Вас ценит, сознает Вашу талантливость и боится, чтобы мое мнение о Вас, как о лучшем русском критике зарубежья, не распространилось, в ущерб его репутации. Поэтому он… защищается, опираясь на свой авторитет и литературные связи (вроде «обожания» Иваска, о котором Вы пишете).
Тем не менее, все вовсе не ограничивается «общественниками» (которые вообще не существуют — что у них, «Социалистический вестник», что ли?) и «адамовичистами», ибо то, что мы с Вами говорим о нем без обиняков, все знают и понимают сами и только боятся его. Так что если бы Вам случилось поговорить с Ю.П. Иваском лично, то, я думаю, многое бы уладилось этим одним. Письмами, конечно, этого Вам добиться будет гораздо труднее, хотя бы из-за затруднительности называть письменно вещи своими именами.
Но независимо от Адамовича, т. е. «Опытов» и «Нового журнала» (где дело тоже обстоит сложнее и где Вы могли бы обратиться, м. б., напр<имер>, к Гулю или к Берберовой и особенно к Г.П. Струве, который и очень влиятелен, и от Адамовича ничуть не зависит), подумайте, напр<имер>, о «Новом русском слове». Там, конечно, и «общественники», и Адамович, и Терапиано, и кто хотите еще, но Вейнбаум — человек на редкость независимый и по характеру, и потому что все они зависят от него, а не он от них. А в интересах газеты (единственное, мне кажется, что его в жизни серьезно интересует) он будет рад заполучить такого талантливого и культурного сотрудника, как Вы. Конечно, я могу ошибаться, как даже сам Адамович или Карпович, но что Вы талантливы — верьте мне — на этот счет у меня нет ни малейшего сомнения, сколько я себя на этот счет ни заставлял пересматривать суждение о Вас. И я уверен, что Вейнбаум в этом скоро убедится тоже.
А частое появление Вашей подписи в его четверговых номерах, это что хотите, только не изгнание из литературы.
Кроме того — на политическом поприще (которое, принципиально, мне так же трудно, как и Вам), не забывайте, что Вы можете легко приобрести очень крупный удельный вес. Вы — отъявленный «не-антисемит» (вспомнить хотя бы Ваши высказывания о Мандельштаме и Вашу фразу в «Приглушенных голосах», где Вы именно его и Пастернака ставите морально в пример остальным) — это чувствуется, у Вас такая «аура». Тогда как большинство других новых эмигрантов подозреваются (б. м., не без основания) в антисемитизме, и именно «общественники» от них поэтому сторонятся.
Возьмите хотя бы «Социалистический вестник» — он ведь до сих пор, несмотря на все усилия и компромиссы, не нашел ни одного эмигранта, сколько-нибудь грамотного, который бы согласился с ним сотрудничать хоть сколько-нибудь без скандалов, без «свободных трибун» и т. д. А ведь стоит Вам послать им уместное «письмо в редакцию», не идущее против шерсти их «хартии», что для Вас не трудно, раз Вы сами анти-большевик и сторонник свободы, а не, напр<имер>, новой контр-диктатуры с антисемитским душком — как у Вас смогут завязаться с ними хорошие отношения и даже сотрудничество, за которые Вам охотно простится «оплеуха» [102].
Им так нужен хороший новый эмигрант, что они не будут щепетильны насчет «оплеухи» и на многое сами охотно закроют глаза, если только Вы хоть чем-нибудь покажете, что готовы с ними ладить.