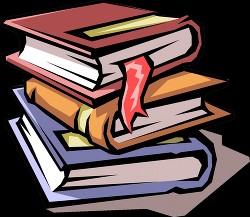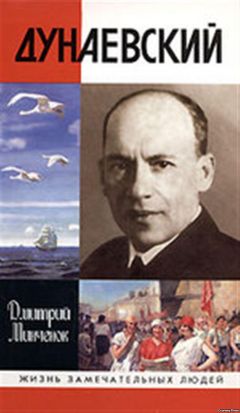21.ІІ.1950 г.
Людмила, дорогой друг! Я получил, наконец, Ваше письмо. (...)Вы мало о себе пишете, но и этого достаточно, чтобы поругать Вас за то, как мало нужно Вам, чтобы разочароваться в дружбе. Почему и на каком основании Вы решили, что я могу хотеть «освобождения» от Вас? Чем Вы так угнетаете мою жизнь, мешаете ей, что я могу хотеть избавиться от Вас? Поистине, надо обладать большой мнительностью или юмором, чтоб так думать.
Я выслушал Ваши нежные упреки в письмах после Вашего возвращения из Москвы. Я эти упреки внешне заслужил, но внутренне я остался для Вас тем, кем и был все эти годы. Ничто не изменилось в том Вашем образе, который я привык беречь в своей душе. А то, о чем я Вам осенью писал, и то, что немного разошлось с представлениями о Вас, имеет такое в сущности маленькое значение, что давно стерлось и ушло. Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой, хорошей дружбы. Я не нашел в себе «мужского» отношения к Вам. Я пытливо изучал свои ощущения, считая, что эти «мужские» нотки были бы законны и... желательны, как некая добавочная эстетическая надстройка. Возможно, что если бы она была, вспыхнула при встрече, то украсила бы наши отношения. Возможно, что она представила бы большую опасность для них. А поскольку существует такое «возможно», я недолго предавался этим мыслям, считая, что самое главное существует. И это самое главное в том, что я по-прежнему хотел и хочу Ваших писем, Ваших бесед, Вашего тихого голоса, Вашей нежной и теплой дружбы. (...)
Ваш И. Д.
17.IV. 1950 г.
Дорогой мой друг! Сегодня я уже должен трепетать перед Вами, вымаливая прощение за мою неаккуратность. Мне больше хотелось бы писать о Вас, но придется давать объяснения и писать о себе. Постараюсь короче.
Жизнь моя в Москве стала до того трудной и отрицательно влияющей на творческую работу, что мне уже дважды пришлось бежать из Москвы для спасения моего «Клоуна». (...) Беспрерывные заботы и дела, связанные то с одним, то с другим делом, умопомрачающее количество телефонных звонков, заседаний, совещаний — все это мучит, терзает, угнетает. Я всегда любил свой рояль, свой кабинет, свой стол и скептически относился к так называемым «домам творчества». Однако на этот раз поддался советам друзей и отправился в Дом творчества нашего Союза [композиторов] в Старую Рузу — в 100 км от Москвы. Я не ожидал, что увижу: 1) превосходную природу, на фоне которой находится этот Дом; 2) превосходные условия для работы. (...) В моем распоряжении была трехкомнатная дача — типа коттеджа со всеми удобствами культурного быта, хорошим роялем и т. д. (...) Сейчас, благодаря этому, «Клоун» так подвинулся, что театр приступает в ближайшее время к постановке, намеченной первой премьерой летнего сезона. Какова же моя работа, какова ее оценка со стороны театра и тех, кто ее уже слушал? Отзывы очень хорошие, и я думаю, что новая оперетта не будет хуже «Вольного».
И все-таки я хочу поскорее закончить о себе и перейти к Вам. Милая Людмила! Я уже привык к тому, что, получая Ваши письма, я жду какой-нибудь очередной пакости, приготовленной Вам милейшей фортуной. Это стало, к сожалению, лейтмотивом Вашей жизни, и я все жду и надеюсь, когда же Судьба пошлет Вам хоть немного счастья и благополучия. Что-то промелькнуло радостное в Ваших зимних письмах, а потом и Вы уже сами ничего об этом не пишете. Мираж? Случайный проблеск? А потом это ужасное несчастье с Вашим сыном. Я так переживаю все это, потому что сам по-отцовски понимаю, какое это несчастье. (...)
Вполне понятно, что все это угнетает Вас. Но почему Вы вдруг заговорили о смерти, о каких-то предчувствиях? Людмила! Я не узнаю Вас, и мне странно читать Ваши строчки. Я даже не хочу ссориться с Вами по этому поводу, а тем паче говорить банальности. Но если бы Вы знали, как мне хочется Вас утешить и как мне хочется, чтобы Вам было хорошо. Вы мне представляетесь человеком, которого опутали сетью, из которой он никак не может выкарабкаться. На меня страшно влияет Ваше состояние. (...) Но не вздумайте скрывать от меня Ваши переживания сочинением «многокрасочных» писем. Это не нужно мне. Мне нужна Ваша настоящая радость, чтоб я мог порадоваться вместе с Вами. Чем же я могу Вам помочь, мой друг? Подумайте и напишите, не стесняйтесь. (...)
Я очень тронут Вашим возмущением по поводу недооценки моей личности, но... сие дело от нас не зависит. Что же касается Сталинской премии, то фильм «Кубанские казаки» будет обсуждаться за 1950 год, так как он вышел уже после окончания сессии Сталинского комитета. Думаю, что фильм этот будет премирован. Если судить по громадному резонансу и распространению, какие сейчас получила моя музыка, то надо надеяться, что и я не буду обижен. Но... все может быть. Так сейчас все зыбко, так много посторонних соображений влияет на оценку людей и их работы, что трудно что-либо предугадывать. Вы правы, когда пишете, что по сравнению с любовью народа все остальное — ничто. Я всегда смотрел так, а теперь тем паче. И я работал раньше и теперь работаю не для наград и премий. А так называемая официальная оценка? Она так подмочена людьми, вертящимися вокруг нас, она изобилует вследствие этого таким количеством нелепостей, что скоро потеряет свою ценность и значение. Поэтому — работать, только работать, пока твое дарование способно производить ценности и пока твоя музыка способна радовать сердца. Что может быть выше личного удовлетворения, личной убежденности в правоте и нужности твоей деятельности?
Позвольте мне крепко поцеловать Вас и пожелать Вам радости и счастья. Жду писем.
Ваш И. Д.
25/IV—50 г.
Мой дорогой друг!
Для меня было очень приятным сюрпризом получение от Вас нот и письма накануне весеннего праздника. Хитрец! Вы знаете, чем замолить свою вину! (...)
Вчера слушала по радио музыкальный очерк о Вас — и до сих пор под обаянием Вашей музыки и Вашего образа. Да, я могу отдать должное своему вкусу, когда в чудесное время светлой и трепетной юности полюбила Вашу музыку. Вы заслужили себе бессмертие, и Ваши песни долгое, долгое время будут петь и любить простые люди всех стран. Такое сочетание — чудесный музыкант и прекрасный человек! Я горжусь Вами и немножечко собой — за то, что имею право называть Вас своим другом. (...)
Мне еще очень много хорошего хотелось бы Вам сказать, но боюсь, что Вы будете меня обвинять в пристрастии или «сочинении». Да и поздно уже, а завтра у меня трудный день. А Вы еще ждете чего-то нового и хорошего в моей жизни. Но, милый друг, у меня без перемен, ничего ни хорошего, ни плохого. Зимняя радость — не мираж, а скорее случайный проблеск. В одном из своих новых друзей я уже жестоко разочаровалась, но в другого — верю до сих пор. Здешняя жизнь меня засасывает до отчаяния, я скоро начну пускать пузыри. Если бы Вы могли спасти меня от нее, вырвать отсюда! Боже! Какой несбыточной мечтой кажется мне жизнь в Москве или под Москвой! И подумайте, что мечта всей жизни может иногда не осуществиться из-за какого-либо пустяка. Мне, например, при возможности найти работу в десятках мест никогда не жить в Москве из-за невозможности получить квартиру. К сожалению, в нашей жизни доминирует материальная основа. Да кто знает? Может быть, в других условиях и моя жизнь сложилась бы совсем иначе. А сейчас? Ну чем можете Вы мне помочь? Изменить мое материальное положение Вы не можете, да я и не хочу, чтобы наши отношения вылились бы в такую форму. Достаточно того, что Вы уже сделали для меня. Но подумайте: мама моя одевалась очень хорошо, а я в своей жизни помню только одно хорошее платье — то, которое подарил мне отец на заре моей юности. А после его гибели я уже не имела возможности иметь то, что мне хотелось, или то, что мне нравилось. И так во всем. (...) Сейчас жизнь становится труднее из-за того, что дети растут, заботы о них — тоже. А Юрий! Многих лет жизни стоит он мне! Да что и говорить! Вам многого не понять потому, что это нужно испытать на собственной шкуре.