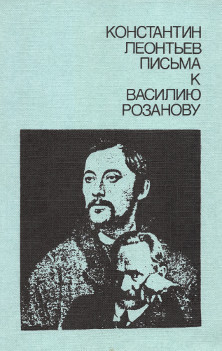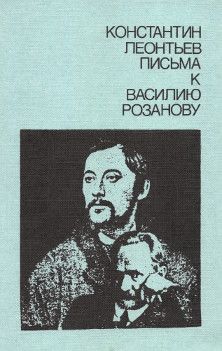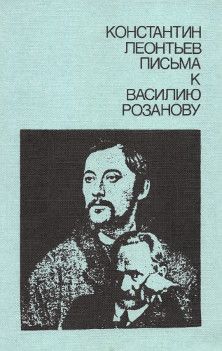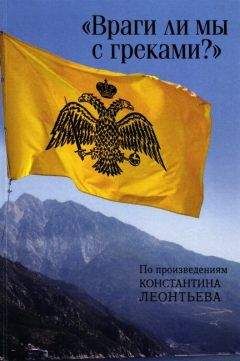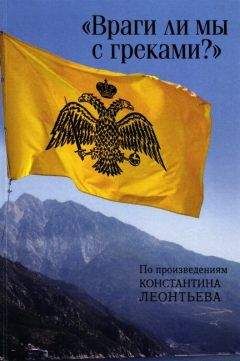87
Конечно, все очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставило меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем. Так мы и не свиделись. A in concreto человек всегда интереснее и лучше еще, чем по писаниям, письмам. Сужу по Страхову, которого долго знал, и из знания этого извлек бездну наслаждения, пользы. «Точно путешествуешь по Финикии, по Африке» и пр., знакомясь с новыми любопытными людьми. Новый человек интересен, как и новая страна. Но я всегда ленив был к таким «путешествиям».
88
Критические о себе.
89
Европейская культура и наше к ней отношение — четвертый и последний фельетон в Моек. Ведом, за 1891 г., август. Тут говорилось о Л-ве и его теориях.
90
И до сих пор этот 3-й том не издан. Fatum. Вообще слова мои, что Л-в гораздо больше любил людей, чем люди его любили, — мне думается, верны и много объясняют в его судьбе.
91
Из писем Л-ва к г. Губастову (ныне русскому резиденту при папском престоле, долголетнему сослуживцу и другу Л — ва), напечатанных в «Русском Обозрении», видно, что это были крошечные, в несколько десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200–300), долги разным знакомым еще в Турции. Л — в постоянно этим тревожился: и не тем, что он должен деньги («честь моя не очищена»), а тем, что, быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень пригодились бы давшему их. Не на меня одного эти тревоги, среди болезней и страшной собственной бедности, производили впечатление необыкновенной душевной чистоты Л-ва.
92
Конечно, не найдется. И Бодянский, и Сотири — фигуры оригинальные и независимые. Вронский же, хоть и блестящий гвардеец, также есть только продукт среды и времени, результат обстоятельств, как и, средний европеец», «либеральный земец» или «либеральный адвокат» (категория понятий Л-ва). Он мне и Л-ву представляется «оригинальным», «фигурою», — потому что мы не военные; как и мы ему, верно, представились бы «фигурными». Л-в в оценке Вронского исходил из эстетического идеала, между тем эстетичного-то ничего во Вронском и нет. Разве что эполеты позолочены лучше, чем у других офицеров. Но слова эти мои не затрогивают (как, вероятно, думал Л — в) эстетики вообще в «бранных кликах», в воинском лагере, дремлет ли он ночью перед грозою, или пробужден и разразился сам грозою. Древние, начиная с египтян, имели «бога войны». Война есть вообще категория, трудно постижимая «для штатских» (напр., писателей), но она есть именно категория, мир особенный и сильный, со своею тайною и сущностью. Но, как и все в Европе, война стала в ней неэстетичной: это тот же «телефон» и «рельсовый путь», машина чудовищная, где очень мало лица человеческого. Войска Густава Адольфа и Валленштейна, войска Кромвеля или Генриха IV, Карла Великого или Омара — это вовсе другое, чем наши войска! Прежде всего была идея, великая, священная, за которую неслось оружие. В сущности, только священная война и понятна, допустима. Но когда два дипломата, сокровенно от народов и даже мало понятно для своих государей, хитрят друг с другом, хитрят год, десять лет, пятнадцать лет, — а на 16-й год у одного хитрости не хватило и другой бросает войска на нацию, как бульдога на мышь (Бисмарк на Францию), то получается зрелище кровавое и бессмысленное, также мало эстетичное, как крушение товарного поезда или проигрыш в рулетке. Л — в же пересаливал: и одобрял не эстетику небесную (в отражениях на земле), а звон шпор, позолоту пуговиц, «lа nature morte», как говорят художники. Красив дождь и радуга. Но ничего особенно красивого нет, когда учитель физики перед классом учеников повторяет их в физическом кабинете.
93
Подчеркнуто тремя чертами. Вообще при печатании этих писем жирный шрифт передаст тройное или двойное подчеркивание слов, нередкое у Л-ва. И еще оговорка: везде слова: «церковь», «православие» у него написано с прописных букв, что не передано при печатании этих писем.
94
Ну, что же, и лица Шиллера, и Фауст у Гете разве не «изломаны»? не «изломан» ли и Гамлет? Тут Л-в идет против вымысла, идеализации в художестве, возвращается к натурализму, который сам же так неистово отрицал. Д-кий, конечно, не срисовывал типов с действительности, а выдумывал человека; однако, выдумывал его, повинуясь глубочайшему знанию человечности. Таким образом, пожалуй, он, человека» и не верно рисовал, зато очень верно — человечество. До поразительности, до ослепительности. Выбросить его из всемирной литературы, из дум человека о себе, так же невозможно, как выбросить Шекспира, Гомера, Моисея, пророков.
95
Все это очень верно. Но, великий искатель» может вырасти на почве, вообще ищущей», а не среди квиетизма и успокоенности. В нижеследующем рассуждении о Вронском и Левине заметим следующее: ну, ввести бы Леонтьева в целый эскадрон Вронских, или в факультет Левиных, Раскольниковых. К Вронским, в их залу, Конст. Никол. Л-в вошел бы с азартом восхищения, почти неся букеты из белых роз. Но кончились приветствия, прошел час рукопожатий, все усаживаются или так бродят по зале или казарме. Скучно Константину Николаевичу. Никто не понимает ни его «триединого процесса», ни восхищения к Бодянскому или Сотири. Все очень одобряют болгарских либералов, а о патриархе константинопольском просто говорят, что его надо сбросить в Босфор. Но и об этом говорят не настойчиво, а просто танцуют и едят бутерброды. Л-ву просто тут нечего делать: и, задыхаясь, в конце концов он бросился бы вон. В залу или, пожалуй, в студенческую «столовую» он вошел бы, пожимая плечами и аристократически морщась: все в плэдах Раскольниковы, Разумихины, Левины. Он оборвал бы и был бы оборван (в речи), но понимаемый и понимая. Он заспорил бы, и, не заметно, годы бы проспорил, не скучая здесь, найдя бы учеников или учителей, найдя вождя себе или «верных», как воины Густава Адольфа, солдат своим идеям. Кому же в сочинениях своих говорил Л-в? Распросите среди Вронских, «знакомы ли они с сочинениями Леонтьева, столь замечательными в историческом и политическом отношениях?» И не слыхивали. А какой-нибудь бедный студент, из ненавидимого Л-вым типа, ломает над ними голову, ворошит волосы, хватается за перо, пишет им апологию или страстный протест. Увы, все сочинения Л-ва похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом. Он оттого и прошел мимо публики, мимо читателя, что «Дульцинея» этого героя Ламанчского просто не слушала его «изъяснений в любви»; а кто его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова привета. Мы любим не сродное с нами: Л-в сам, конечно, был «вечно ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до преступности в «исканиях», до святотатственности, до великих посягновений (отношение его к христианству). Оттого он, как исполин на карликов, и посмотрел на литературные портреты (т. е. в их романах) Достоевского и Толстого. Но, портреты» — Бог с ними: с Достоевским и с Толстым Л-в разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб — Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако, история обоих их описывает в той же главе: «великие мореплаватели». Сущность этого «великого мореплавания» заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастия — диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег — это мы, наша действительность, «Вронские». В «скуке» Л — ва было много капризов, изгибов, которые и разобрать трудно. Он был гораздо менее прямолинеен, чем названные два писателя, отрицания которых не допускают сомнения о себе, как и положительный их идеал. Леонтьев — весь в капризах, как женщина: он делает ложные «изъяснения в любви», как ложно же негодует. Он любит страстно и мучительно, никак не менее, чем оба названные писателя, но никак не может сказать, от застенчивости или неопытности, кого именно и почему он любит, говоря стихом поэта: