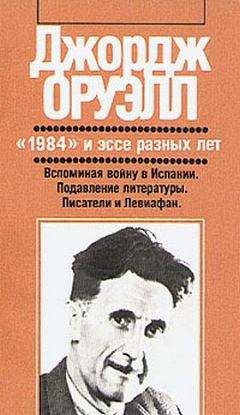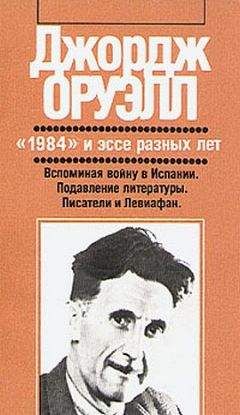собираешься дернуть сигнальный шнур и остановить поезд, – мягко сказал он, – следовало бы предварительно убедиться в наличии у меня пяти фунтов на штраф.
После этого он сразу, почти сразу сделался таким, как всегда, и продолжал беседовать без малейшего замешательства. Его стыдливость, если и существовала когда-либо, погибла в далеком прошлом. Возможно, вследствие чрезмерного обилия низменных связей.
Примерно час Дороти ощущала неловкость, но потом поезд прибыл в Ипсвич, где была десятиминутная стоянка, и они сбегали в буфет выпить по чашке чая. Последние двадцать миль разговаривали совсем дружески. Варбуртон ни разу не вспомнил о своем предложении и, лишь когда подъезжали к Найп-Хиллу, снова, не столь уже трагично, коснулся ее планов на будущее.
– Так ты действительно, – спросил он, – собираешься вернуться к активной приходской деятельности? По прежней программе: ревматизм миссис Пифер, мозольный пластырь миссис Льюин и так далее? Перспектива не угнетает?
– Бывает иногда. Но все пойдет нормально, когда снова втянусь. Мне, видимо, дороже всего привычное.
– И хватит силенок на годы злостного лицемерия? К этому же все сведется. Не боишься, что шило нечаянно вылезет из мешка? Твердо уверена, что вдруг не обнаружишь себя научающей деток в воскресной школе произносить «Отче наш» задом наперед или читающей им вместо евангельской главы пятнадцатую главу Гиббона [72]?
– Вряд ли. Я ведь действительно думаю, что так работать, даже если читать молитвы, которым уже не веришь, даже если учить детей вещам, которые сам не считаешь очень достоверными, все равно чем-то полезно.
– «Полезно»! – поморщился Варбуртон. – Любишь ты это чугунное словечко. Диагноз – гипертрофия чувства долга. Нет уж, по мне чистейший здравый смысл в том, чтоб, живя, порадовать себя немножко.
– А это просто гедонизм, – возразила Дороти.
– Девочка моя, ты не подскажешь такую философию жизни, которая стоит не на гедонизме? Твои немытые, обсыпанные паразитами святые праведники – величайшие гедонисты. Ибо метят на вечное блаженство, тогда как мы, грешники, уповаем всего на несколько приятных лет. В конце концов, все мы ищем радости, только некоторые предпочитают извращенные формы удовольствий. Твое понятие о радостях, видимо, непременно включает растирку ног старушки Пифер.
– Дело совсем не в этом, а в том… о! Ну, не знаю, как объяснить!
Сказать бы Дороти хотела, что, хотя вера ее утрачена, сама она не изменилась, не могла измениться, не хотела изменить направление своего сознания; что ее мир, хотя он виделся и опустевшим, и обессмысленным, все-таки оставался миром христианским; что христианский образ жизни продолжал быть единственно возможным и органичным. Но она не умела это выразить и опасалась вызвать обычные насмешки. Так что неубедительно резюмировала:
– Почему-то чувствую, что так для меня лучше. Чтобы все-все шло по-прежнему.
– Все-все? Когорта Светлых Чаяний, Круг Супружеского Согласия, обходы прихожан, занятия в воскресной школе, СП дважды в неделю, пяток сотен псалмов – текст по сборнику, хорал григорианский?
– Нет, – невольно улыбнулась Дороти, – пение не григорианское. Отец его не любит.
– И ты думаешь, кроме потаенных мыслей, никаких перемен? Со всеми старыми привычками?
Дороти задумалась. Да, будут кое-какие перемены. Но большинство их сохранится в тайне. Вспомнилась ее дисциплинарная булавка. Это всегда было ее особенным секретом, не стоит и сейчас рассказывать.
– Ну, – сказала она, – вероятно, перед причащением я буду опускаться на колени рядом с мисс Мэйфилл не слева, а справа.
Прошла неделя. Дороти въехала вверх по холму и протолкнула велосипед в калитку ректорского сада. Угасал прекрасный тихий вечер, солнце садилось в чистой, без облачка, зеленоватой дали. Дороти заметила, что ясень у калитки распустился, весь зацвел походившими на запекшиеся ранки вспухшими багровыми комочками.
Она страшно устала. Неделя была очень плотная – потребовалось и подопечных всех навестить, и попытаться хоть как-то наладить приходские дела. За время ее отсутствия все пришло в дикий беспорядок. Церковь заросла грязью сверх всякого воображения. Пришлось вооружиться метлой и щетками и целый день чистить, скрести; она до сих пор еще содрогалась, вспоминая завалы обнаруженных за органом «мышиных следов». Мыши облюбовали этот уголок из-за того, что раздувавшему органные меха Джорджи Фрю непременно нужно было есть печенье во время проповеди. Работу в церковных обществах забросили, в результате чего Когорта Чаяний и Круг Согласия вообще скончались, посещаемость воскресной школы упала наполовину, а у Дружных Матерей бушевала междоусобица, вызванная каким-то бестактным замечанием мисс Фут. Колокольня рушилась катастрофически. Приходской журнал не доставлялся, и деньги на него не собирались. Ни один из счетов церковных фондов не велся как полагается, девятнадцать шиллингов вовсе исчезли из отчета, даже в церковных реестрах путаница, и прочее, и прочее ad infinitum [73].
Со дня приезда Дороти была по уши в работе. На удивление быстро восстановился прежний распорядок. Будто отсутствовала она не больше суток. А само ее возвращение в Найп-Хилл теперь, когда скандал улегся, почти не вызвало любопытства. Некоторые женщины из списка обязательных визитов, особенно миссис Пифер, искренне обрадовались. Виктор Стоун, поверивший клевете миссис Семприлл, выглядел поначалу слегка смущенным, однако забыл про конфуз, рассказывая Дороти о своем последнем триумфе на страницах «Гласа Господня». Разумеется, кое-какие дамы «кофейной гвардии» останавливали Дороти на улице, щебеча: «Ах, как приятно снова вас видеть, дорогая! Мы так без вас скучали! И знаете ли, дорогая, было так неприятно, когда эта ужасная особа везде ходила, сообщала эту выдумку о вас. Но я надеюсь, дорогая, вы понимаете, что для меня не важно, как думают другие, я лично никогда ни единому слову…» Неудобных вопросов, которых так боялась Дороти, никто не задал. «Преподавала в школе близ Лондона» всех удовлетворяло, даже ни разу не спросили, что за школа. И никогда, поняла Дороти, ей не придется признаваться, что она ночевала на столичной площади и сидела под арестом за нищенство. Вообще в провинциальных городках люди имеют смутное представление о жизни где-то далее десяти миль от их калитки. За этими пределами terra incognita – страны обитаемые, населенные драконами и людоедами, но не особенно интересные.
Даже отец встретил Дороти так, словно она уезжала на выходные. В момент ее прибытия он находился в кабинете, покуривая трубку перед напольными часами, стекло которых, четыре месяца назад разбитое ручкой метлы глупой служанки, все еще дожидалось ремонта. Увидев в дверях Дороти, он вынул трубку изо рта и рассеянно положил ее в карман. «Ужасно постарел», – подумала Дороти.
– Приехала наконец, – сказал он. – Добралась хорошо? В поезде не дуло?
Дороти тихонько обняла его, коснувшись губами серебристо-бледной щеки. Когда она отняла руки, он похлопал ее по плечу с едва заметным оттенком теплоты и спросил:
– Что это тебе