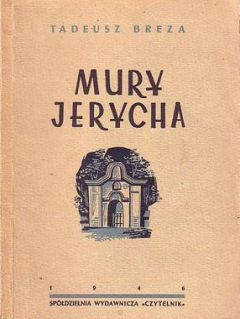Я:
- Ну разумеется, не стоит. Комнатка очень милая. А если я мало ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каким же я был бы туристом, если бы сидел дома!
Малинский:
- Весь день на ногах, а аппетит, я вижу, у вас неважный. Или вам не по вкусу?
- Ну что вы! - запротестовал я. - Я слишком много ходил и устал.
Но правда бьша на стороне Малинского.
Я отодвинул на край тарелки в самом деле очень неаппетитные ракушки, поданные в виде приправы к макаронам, которые от этого стали для меня почти несъедобными.
Козицкая снова заговорила-сухо и к тому же с явным намеком:
- Мне очень неприятно, что наша пища вам не по вкусу. В Польше великолепная кухня!
Я пристально поглядел на Козицкую. Она встретила мой взгляд холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько секунд. Инцидент замял Шумовский, пустившийся в пространные рассуждения относительно различных блюд итальянской кухни. При этом я узнал, что злосчастные ракушки, из-за которых все произошло, называются "vongole". Их-то, во всяком случае, я буду избегать.
XI
Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дняМалинский. В аккуратно вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый. Чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у манжет. Костюм тоже поношенный.
Бульдог, завидев меня, поднимает лай и заглушает первые приветственные фразы Малинского. В этот момент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы мне подавали завтрак в комнату. Но после приветствий приходит очередь информации. Я слушаю со смешанным чувством. Во всяком случае, с любопытством.
- Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад пани Иси.
- Пани Иси?
- Я имею в виду пани Козицкую.
- У меня к ней нет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содержание пансионата-тяжелый и неблагодарный труд.
Малинский прерывает меня:
- Даже не в том дело. Но какое перед ней будущее?
Конкуренция велика; иностранец, к тому же не специалист в данной области, не сможет тут чего-либо достигнуть. То есть добиться независимого положения. В первое время, сразу после войны, когда она приехала сюда из Германии, то надеялась, что ей удастся закончить образование. Ей тогда не было и двадцати лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состояние после двух лет лагеря. С деньгами тогда было легче. Шумовский зарабатывал. Рогульская зарабатывала. Причем нормально, без всякой трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победителей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уж и думать не приходится, что пани Ися получит образование. У нас в пансионате дела идут то лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без посторонней помощи. Не удивительно, что у пани Иси нервы развинтились. Особенно если мечтаешь о многом, строишь разные планы. Иногда это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы бросить все к черту и уехать отсюда.
- Что вы говорите? - удивился я. - Уехать?
- Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые.
По этой причине и раздражительность обостренная. Примервчерашнее настроение. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, на некоторые вещи здесь надо смотреть сквозь пальцы и не придавать им значения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности.
- Да я ни на минуту не был в обиде на пани Козицкую, - ответил я ему. Однако я прекрасно понимаю ваши намерения.
Вы все объяснили, спасибо. В случае чего это мне пригодится в будущем. То есть при следующих колкостях пани Козицкой.
Мы оба рассмеялись и встали. Бульдог снова залаял.
Малинский:
- В город?
- В город.
- Подвезти вас?
- Я не могу так злоупотреблять вашей любезностью.
- Я еду в сторону палаццо ди Джустициа.
- А где это?
- Близ Ватикана.
- А я в библиотеку.
- Ватиканскую? Ну тогда вы злоупотребляете моей любезностью в очень скромном размере.
Он высадил меня у ворот святой Анны. Я подождал, пока его машина исчезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, которая находилась в нескольких сотнях шагов отсюда.
Синьор Кампилли уже подготовил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с другим сел за письменный стол.
- Читай! - сказал он.
Я начал читать про себя.
- Нет! Вслух. Фразу за фразой.
После первой или второй паузы он изменил метод.
- Нет. Лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем по фразам.
Содержание письма меня поразило. Суть даже не в его смиренном и слащавом тоне и не в подходе к особе епископа Гожелинского, которого Кампилли превратил в добряка, источающего святость и великодушие. Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала истине. Так, например, распоряжение епископа, данное им своей курии, приобретало превратный смысл. В изложении Кампилли все выглядело так, будто мой отец только догадывался о неблагосклонности епископа. Ни слова о запрещении. Вместо точной информации о факте-жалоба: "Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей работой". Место эго вызвало у меня опасения. В письме не было никаких просьб, никаких пожеланий.
В одной-единственной короткой фразе оно выражало сожаление.
Будь я монсиньором Риго, то, прочитав такое письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что все постепенно образуется. Ничего больше.
- Ты кончил?
-Да.
- Ну а теперь с самого начала, по фразам.
Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу вслед за мной. Потом секунда тишины, размышления и вопрос, а скорее подтверждение с его стороны:
- Это правильно.
- Да, - отзывался я.
Таким путем мы дошли до центрального места, то есть до той фразы, которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал свои сомнения.
- Ты не прав, - возразил Кампилли. - В письме ни в коем случае не должно быть слова "запрет".
- Но я уже пользовался им в разговоре с монсиньором Риго и представил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не впускают на порог курии, монсиньор это знает. Ведь нельзя же, чтобы устная версия расходилась с письменной!
- Должна расходиться! - с многозначительным видом возразил Кампилли. Ты сообщил монсиньору Риго, каково положение в действительности, и это в порядке вещей. Но-в письме нам нельзя так писать. Это сразу направит дело по ложному пути.
Процессуальному. Правовому. Пойми же наконец, что верующий, католик, может жаловаться на обхождение, на холодность своего епископа, на то, что он его не понимает, но ни в коем случае не на какой-либо его поступок. Жаловаться на поступок, да еще на поступок епископа, - очень опасно, это дерзость!
- Однако в действительности, то есть фактически...
- Но не формально! - прервал меня Кампилли. - Не на бумаге! Для тебя это, быть может, условное различие, но в том мире, с которым^ ты имеешь дело, к написанному слову относятся с величайшей осмотрительностью, признавая между написанным и устным словом почти то же самое различие, что между действием и помыслом.
Мы закончили чтение. Прав он или не прав, установить было невозможно. Однако, несомненно, он обладал опытом. Следовательно, я должен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые фразы при повторном чтении уже не резали мой слух. Тон письма был смиренный-да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий уважение.
- Письмо в целом кажется мне очень хорошим, - признался я.
- В целом-этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне известна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем надеяться, что с пользой.
Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с подписью отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, на других-с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Кампилли сел за машинку и сам все перепечатал.
Еще раз перечитал. Аккуратно внес мелкие исправления пером.
Затем написал адрес на конверте. Все это он проделывал старательно, осторожно, с серьезным видом. Я тем временем наблюдал за ним молча, чтобы не помешать. Как и отец, он за работой то надевал, то снимал очки. Меня это очень растрогалоя был благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я потянулся за письмом.
- Сразу же отнесу, - сказал я.
- Конечно. Но прежде-рюмочку вермута. Мы с тобой ее заслужили!
- В таком случае я не стану пить. Я не приложил никакого труда к этому письму.
- Ничего подобного! Ты возражал. В нашем мирке за такой труд тебе причитается двойная порция!