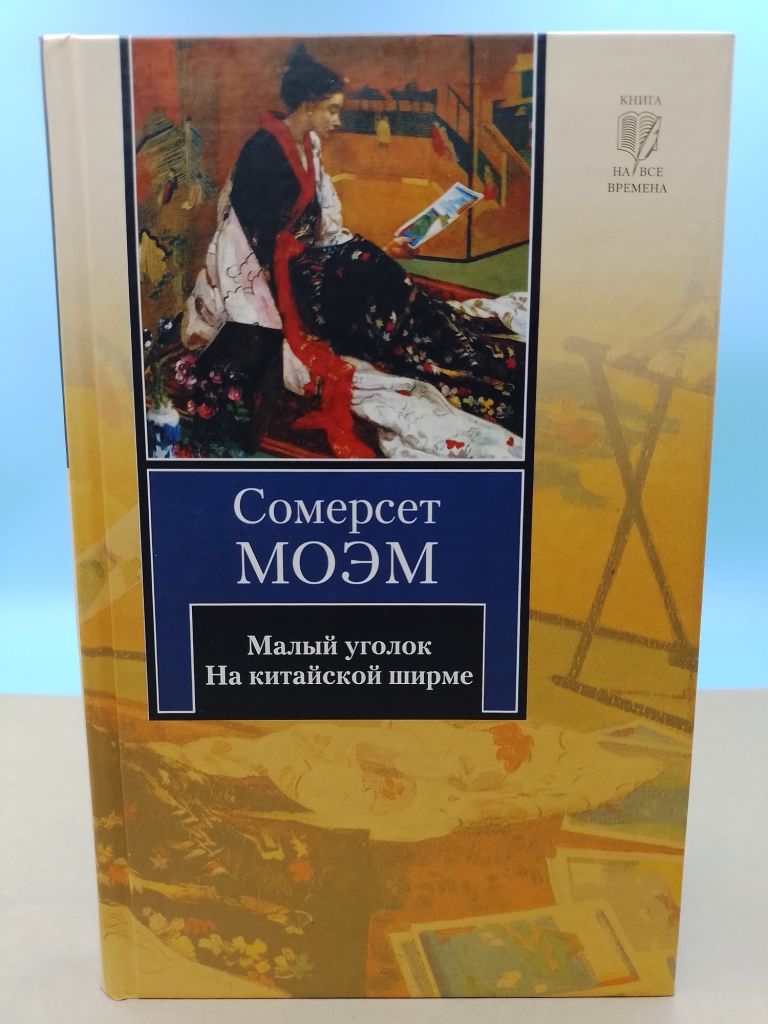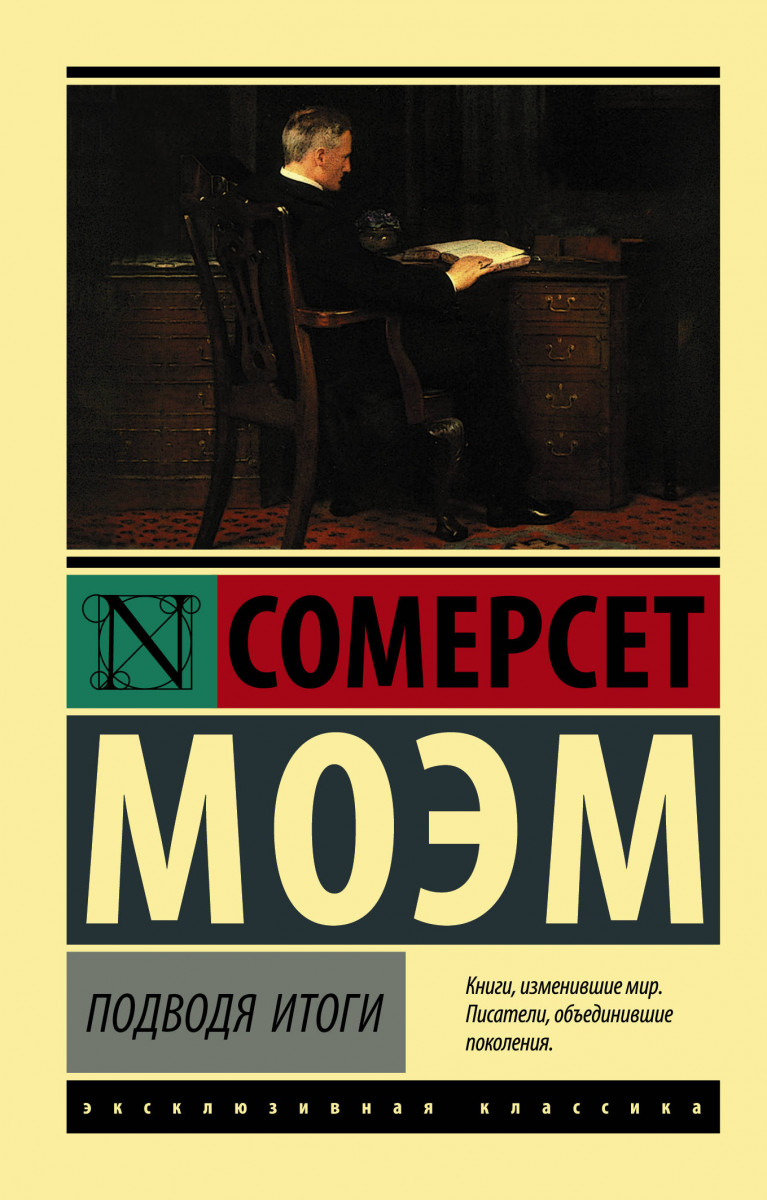чтобы из дрожащих губ не вырвалась молитва. Ну, не ирония ли судьбы! Он, разумный человек, считавший себя чуть ли не философом, оказался жертвой такого малодушного чувства! Доктор мрачно улыбнулся при мысли об этой нелепости. Чтобы он, с его быстрым умом, широкими познаниями, рациональным взглядом на жизнь, он, который ничего не терял в случае смерти, трепетал, а эти люди — невежественные матросы, мошенник капитан и туповатый Фред Блейк — оставались спокойны?! Если вдуматься, это уж чересчур! Чего тогда стоит рассудок? Доктора мутило от страха, и он спрашивал себя, чего же он боится. Смерти? Ему и раньше приходилось глядеть в лицо смерти. Мало того, был момент, когда он решил покончить с собой, только без боли, и понадобилось немало мужества, цинизма и холодного рассудка, чтобы продолжать существование, которое не сулило ничего привлекательного. Доктор был рад, что тогда переборол себя. Но он знал, что его почти ничто не привязывает к жизни. Иногда, во время болезни, он чувствовал, что его связь с земной юдолью очень слаба, и не только примирялся со смертью, но с радостью ее предвкушал. Боли? Он хорошо переносил боль. В конце концов, если ты способен перенести тропическую лихорадку, нарыв или зубную боль, тебе уже ничего не страшно. Нет, дело было не в этом, а в каком–то инстинкте, над которым он был не властен, и доктор с любопытством рассматривал как что–то отдельное от себя это ужасное ощущение, от которого у него сохло в горле и дрожали колени.
— Забавно, — пробормотал доктор, переходя на корму.
Взглянул на запястье. Господи, всего три часа! Было что- то зловещее в этом безоблачном ветреном небе, что–то жестокое в его сверкающей голубизне. Казалось, оно не имеет никакого отношения к бурному морю; а морю, такой яркой и суровой синевы, не было дела до человека. Неведомые ему слепые силы играли им и губили его не по злобе, а в бездумном веселии.
— Как прекрасно море с берега, — мрачно пробормотал доктор, спускаясь в каюту.
— Прикупаю два, — услышал он голос шкипера.
Они все еще играли в эту нудную игру.
— Как погода, док?
— Премерзкая.
— Ну, прежде чем полегчает, мы еще намаемся, как роженица, что никак не может разрешиться от бремени. Эти люггеры — классные суденышки. Им и ураган нипочем. По мне, лучше выйти в море на таком вот австралийском люггере для ловли жемчуга, чем на трансатлантическом лайнере.
— Для вас это родной дом, — сказал Фред.
Они играли на тюфяке капитана, и доктор, сменив насквозь промокшую одежду, бросился на второй тюфяк. Читать в неровном свете лампы было невозможно. Он лежал и слушал монотонные голоса игроков. Чем дальше, тем больше они резали ему слух. Каюта трещала, стонала, над головой яростно завывал ветер. Доктора швыряло из стороны в сторону.
— Вот это волна! — сказал Фред.
— А люггеру хоть бы что! Пятьдесят два. Пятьдесят три.
Фред снова выигрывал, и шкипер сопровождал игру жалобами на невезение. Доктор Сондерс, оцепенев, пытался превозмочь терзавший его страх. Время тянулось с ужасающей медленностью. Перед закатом капитан Николс поднялся на палубу.
— Немного посвежело, — сказал он, опять спустившись в каюту. — Хочу вздремнуть. Похоже, ночью мне поспать не придется.
— Почему вы не хотите лечь в дрейф? — спросил Фред.
— Становиться на якорь при таком ветре? Нет, сэр, пока все идет, как сейчас, нам ничего не грозит.
Он свернулся калачиком на тюфяке и через пять минут уже мирно похрапывал. Фред вышел на палубу подышать воздухом. Доктор был сердит на себя за то, что свалял такого дурака и сел на это суденышко, и на капитана и Фреда за то, что им был неведом терзавший его страх. Но когда парусник в сотый раз чуть не пошел ко дну и вновь выпрямился, доктором стало овладевать невольное восхищение храбрым суденышком. В семь часов вечера кок принес ужин и разбудил капитана Николса. Ему удалось разжечь огонь, и он приготовил горячее: разогрел мясо и вскипятил чай. Затем они все трое вышли на палубу, и капитан Николс встал за штурвал. Ночь была ясная, сверкали мириады звезд; волнение не уменьшалось, накатывающие на них валы казались в темноте огромными, как горы.
— Вот это волна! — вскричал Фред.
На люггер стремительно надвигалась высокая стена зеленой воды с неровным белым гребнем. Казалось, она неизбежно должна обрушиться на них, и тогда «Фентон» перевернется и над ним покатится вал за валом. Шкипер взглянул на нее и всем телом вжался в штурвал. Он вел люггер так, что водяная стена должна была ударить прямо в корму. Вдруг их занесло в сторону, раздался грохот, и по палубе пронесся водный шквал. На миг они ослепли. Затем на поверхности возник фальшборт. «Фентон» встряхнулся, как пес, выбравшийся на сушу, вода потоком хлынула из шпигатов.
— Да, тут не до шуток! — заорал шкипер.
— Есть поблизости какие–нибудь острова?
— Ага. Если продержимся еще часа два, окажемся под прикрытием.
— А как насчет рифов?
— На карте не обозначены. Скоро взойдет луна. Шли бы вы оба лучше вниз.
— Я останусь, — сказал Фред. — В каюте душно.
— Дело твое. А вы, док?
— От меня может быть здесь польза?
— Как от козла молока.
— Помните, что в ваших руках судьба Цезаря! [23] — закричал доктор шкиперу на ухо. Но капитан Николс не получил классического образования и не оценил шутки. «Чему быть, того не миновать», — подумал доктор и решил с наибольшим доступным ему удовольствием провести, возможно, последние часы своей жизни. Он пошел за A-Каем. Бой спустился следом за доктором в каюту.
— Давай попробуем подарок Цзинь Цина, — сказал доктор. — Сегодня можно не скупиться.
Бой достал из саквояжа лампу и опиум и с привычной беззаботностью стал готовить трубку. Никогда еще первая затяжка не доставляла доктору такого наслаждения. Они курили по очереди. Постепенно на душу доктора снизошел покой. Нервы перестали отзываться на каждое движение люггера. Страх покинул его. После обычных шести трубок А-Кай откинулся на спину.
— Еще не все, — мягко сказал доктор. — Сегодня в кои–то веки я дойду до самого конца.
Движения парусника перестали быть неприятными. Мало–помалу доктор уловил их ритм. Швыряло из стороны в сторону лишь его бренное тело, дух его парил в высотах, куда не достигал рев шторма. Доктор шагал по бесконечному пространству, но знал и без Эйнштейна, что оно ограничено его собственной мыслью. Знал он и то, что стоит ему чуть–чуть напрячь воображение, и он постигнет величайшую тайну, но он этого не делал, так