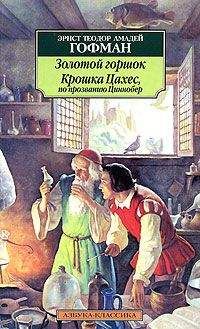-- Друг мой, я обязан тебе спасением души, избавлением от вечной погибели; я не могу сейчас расстаться с тобой, позволь мне еще немного пожить у тебя. Ах, сжалься над несчастным, который поддался искушению сатаны и неминуемо бы погиб, если бы святой, к коему он прибег в страшную минуту своей жизни, не привел безумца в этот лес...
Монах помолчал немного, а затем продолжал:
-- Вы нашли меня совершенно одичавшим и, конечно, даже не подозреваете, что некогда я был богато одаренным от природы юношей, которого в монастырь привела лишь мистическая склонность к уединению и глубоким научным занятиям. Братия очень любила меня, и я жил так счастливо, как можно жить лишь в монастыре. Благочестие и образцовое поведение заметно выдвинули меня, и во мне провидели будущего приора. Но как раз в эту пору некто из нашей братии возвратился из дальних странствий и привез монастырю всевозможные реликвии, которые ему удалось раздобыть дорогой. Среди них оказалась закупоренная бутылка, якобы отобранная святым Антонием у дьявола, хранившего в ней какой-то эликсир. Эта достопримечательность тоже сугубо оберегалась, хотя это и нелепо, ибо такая вещь не может внушать нам благоговение, какое мы испытываем к подлинным реликвиям. Но мною овладело неописуемое греховное вожделение испытать, что же, в сущности, находилось в загадочной бутылке. Мне удалось припрятать ее, а когда я открыл ее, то нашел изумительнейшего букета, сладкий на вкус, крепкий напиток, который я выпил весь, до последней капли... Не буду говорить о том, как изменилось с тех пор мое душевное состояние, какую жажду мирских наслаждений я испытал и как порок, представляясь мне в самом соблазнительном виде, казался мне с той поры венцом всей жизни, -- а коротко скажу, что жизнь моя, звено за звеном, стала цепью позорных преступлений и, несмотря на дьявольскую хитрость, с какой я скрывал свои проделки, я наконец был изобличен и приор приговорил меня к пожизненному заключению в монастырской темнице. Я просидел несколько дней в сыром и душном узилище и наконец не выдержал, стал проклинать и себя самого, и жизнь свою, богохульствовал, поносил Бога и святых; тогда передо мной в пламенно-багровом сиянии предстал сам сатана и обещал выпустить меня на волю, если я отвращусь от Всевышнего и буду впредь служить ему, сатане. Со стоном бросился я перед ним на колени и закричал: "Отрекаюсь от служения Богу, отныне ты мой повелитель, от твоего жаркого сияния излучается вся радость жизни". Тут поднялся ураган, задрожали, как от землетрясения, стены, резкий свист пронесся по моей темнице, рассыпалась прахом железная решетка окна, и вот уже, выброшенный незримой силой, я стою посреди монастырского двора. Озаряя каменное изваяние святого Антония, воздвигнутое как раз посередине двора у фонтана, ясный месяц сияет среди облаков... Неописуемый ужас терзает мне сердце, я падаю ниц перед святым, отрекаюсь от лукавого и молю о милосердии. Тем временем набежали черные тучи и снова зашумел вихрь, я потерял сознание, а пришел в себя уже в этом лесу, где, обезумев от голода и отчаяния, бродил в состоянии какого-то неистовства и был спасен вами...
Вот что поведал мне монах, и рассказ его произвел на меня такое глубокое впечатление, что спустя годы я смогу повторить все от слова до слова. С тех пор капуцин вел себя так благочестиво и проявлял такое благодушие, что мы все его полюбили, и тем непонятней приступ безумия, разразившийся прошлой ночью.
-- А не знаете ли вы, -- первым делом спросил я лесничего, -- из какого именно монастыря бежал этот капуцин?
-- Он умолчал об этом, -- ответил старик, -- и я не стал его расспрашивать; вдобавок мне почти достоверно известно, что это как раз тот несчастный, о котором недавно шла речь при дворе; правда, там и не подозревают, что он так близко, а я не довожу своих подозрений до сведения двора, опасаясь навредить монаху.
-- Но мне все же хотелось бы это знать, -- возразил я, -имейте в виду, что я тут проездом и к тому же даю вам слово молчать обо всем, что ни услышу от вас.
-- Надобно вам знать, -- продолжал лесничий, -- что сестра нашей герцогини -- аббатиса монастыря бернардинок в ***. Она приняла и воспитала сына бедной женщины, муж которой якобы состоял в каких-то таинственных отношениях с нашим двором. Питомец ее постригся по призванию в монахи и стал широко известен как проповедник. Аббатиса очень часто писала своей сестре о нем, но с некоторого времени она стала сокрушаться по поводу его греховной гибели. Говорили, что он тяжко согрешил, злоупотребив какой-то реликвий, и был изгнан из монастыря, украшением которого считался долгое время. Обо всем этом я узнал из разговора, что вел при мне лейб-медик с одним из придворных. Он упоминал о каких-то еще весьма примечательных обстоятельствах, но, не зная относящихся к этому событий, я почти ничего не понял и вскоре все позабыл. И если монах рассказывает несколько иначе о своем бегстве из заточения, приписывая его сатане, то я считаю это фантазией, следствием его помешательства, и полагаю, что наш монах и есть тот самый брат Медард, которого аббатиса воспитала для духовного поприща и которого дьявол толкал на всевозможные грехи, пока Господь не покарал монаха неистовым безумием.
Когда лесничий назвал Медарда, меня пронизала дрожь ужаса, да и весь его рассказ истерзал мне сердце, словно в него то и дело вонзался острый клинок... Я был всецело убежден, что монах говорит правду, ибо стоило ему вновь отведать адского напитка, которого он уже когда-то с наслаждением испил, как он тут же впал в проклятое, кощунственное безумие... Да ведь и я сам таким же образом стал жалкой игрушкой злой таинственной силы, опутавшей меня нерасторжимыми узами, и, считая себя свободным, только бегаю по клетке, в которую меня навеки заперли.
Добрые наставления благочестивого Кирилла, на которые я и внимания не обратил, появление графа и его легкомысленного наставника -- все пришло мне на ум.
Теперь-то я знал, чем объяснялись и внезапно начавшееся во мне внутреннее брожение, и крутая ломка моего душевного состояния; я уже стыдился своего преступного поведения, и этот стыд принял было за глубокое раскаяние и сокрушение, какие испытал бы при действительном покаянии. Погруженный в глубокое раздумье, я рассеянно слушал старого лесничего, а тот, снова обратившись к охоте, живо рассказал про свою борьбу с браконьерами. Начало смеркаться, мы стояли возле зарослей, где, как полагали, держалась птица; лесничий указал мне мое место и особо наставлял меня молчать, не шевелиться, а только стоять, чутко прислушиваясь, со взведенными курками. Охотники тихо скользнули на свои места, и я остался один в сгущавшихся сумерках.
И вот на фоне мрачного леса все яснее стали выступать образы из моего прошлого. Я увидел как бы воочию свою мать и аббатису, -- они бросали на меня взгляды, полные укоризны... Евфимия, шурша платьем, бросилась прямо на меня, смертельно бледная, и не сводила с меня горящих черных глаз, подняв угрожающе свои окровавленные руки, с которых срывались и падали капли крови, -- боже, это была кровь из смертельных ран Гермогена,--тут я вскрикнул!.. В этот миг надо мной, громко хлопая крыльями, пронеслись со свистом какие-то птицы, я выстрелил вслепую в воздух, и две из них как срезанные упали к моим ногам. "Браво!" -- крикнул стоявший неподалеку от меня егерь, сшибая третью.
Вокруг трещали выстрелы; наконец охотники собрались, каждый со своей добычей. Егерь рассказывал, бросая на меня лукавые взгляды, что я громко, будто с испугу, закричал, потому что птицы пронеслись, едва не коснувшись моей головы, а я, даже не приложившись как следует, вслепую выстрелил, и две все-таки упали; в темноте, говорил он, ему померещилось даже, что я ткнул ружье куда-то совсем в сторону и все же срезал их. Старый лесничий смеялся над тем, что меня так напугали тетерева и что стрелял я, словно отбиваясь от них.
-- А впрочем, сударь, -- сказал он, -- я надеюсь, что вы честный и богобоязненный охотник, а не запродавший свою душу дьяволу браконьер, который стреляет без промаха в любую цель.
Эта, без сомнения, простодушная шутка старика поразила меня, и даже мой удачный выстрел -- простая случайность при моем страшно возбужденном состоянии -- до дрожи меня испугал.
Испытывая как никогда глубокое раздвоение моего "я", я стал в своих собственных глазах существом двойственным, и меня охватил ужас со всей его разрушительной силой.
Вернувшись домой, мы узнали от Христиана, что монах вел себя в башне спокойно, только ни слова не говорил и не принимал никакой пищи.
-- Дольше я не могу оставлять его у себя, -- промолвил лесничий, -- кто поручится, что его помешательство, как по всему видно, неизлечимое, не разразится с новой силой и он не натворит бед в нашем доме. Завтра чуть свет Христиан с Францем повезут его в город; донесение мое давным-давно готово, пусть его поместят в сумасшедший дом.
Когда я очутился один в своей комнате, мне почудилось, будто передо мной стоит Гермоген, а когда я стал вглядываться пристальнее, он превратился в умалишенного монаха. В моем сознании оба слились воедино и стали для меня неким предостережением свыше, которое я услыхал как бы на краю пропасти. Нечаянно я споткнулся о флягу, все еще валявшуюся на полу; оказалось, что монах выпил все до последней капли, и, таким образом, я навсегда избавился от соблазна вновь отведать этого напитка; но даже флягу, из которой все еще исходил дурманящий аромат, я выбросил в открытое окно далеко за ограду дома, устраняя всякую возможность пагубного воздействия рокового эликсира.