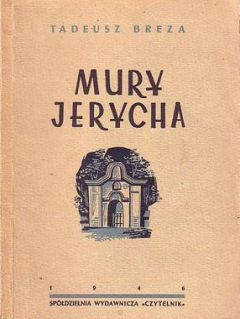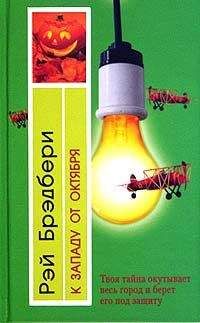- Да ведь это же просто чудо. - Штемлер воздела руки вверх, словно это было какое-то видение.
Дитриха нс тянуло к спору Не затем он приходил на нечера.
От скуки искал за что зацепиться.
- Меня это нс трогает- признался он. - Деревенское, без понятия наивное, ну и что с юго'.' Ребенок нарисует домик, так мамочка носторгаетгн. Тут, -он покачал на полки. - то же самое.
Вдруг чью-то грудь захлестнуло материнское чувство к мужику, и давай с ним носиться. В вас такая мамочка проснулась. Да. черт возьми, не того же разве мы хотим от него, чтобы он, словно дитя, пальцем умел глину приминать? Вы подумайте-ка об этом.
Этого не должно быть! Она огорчилась до глубины души, И зачем только завела речь с человеком, который этих вещей не любит. Ба! Презирает их. Отступать слишком поздно. Надо ему как-то возразить, стала она себя упрекать. Дитрих был суров, ему не хватало воображения, он мог отнести себя к позитивистам , если бы кто-нибудь припомнил ему этот термин. Все зло в Польше, по его представлениям, происходило от умиления. И остальные недостатки объяснялись этим. Слишком легко отпускались грехи, но никогда раз и навсегда. Ибо польское размягчение сердец, говорил он, - это болезнь, которая поражает человека, развивается в нем устрашающе быстро, и затем уходит. Тогда возвращается злоба, самого худшего пошиба, ибо направлена она против того, кому ты уже простил. Дырявая доброта.
Госпожа Штемлер взяла в руки одну из глиняных фигурок.
- Да вы посмотрите, - просила она, вглядываясь в глаза, выдавленные прутиком, в крохотный, узенький, вздернутый нос, двумя пальцами вытянутый из личика, - ни о чем вам разве это не говорит?
Она не спускала с него глаз, дожидаясь, что он увидит, а вместе с тем осознавая, что ей не удастся настроить его взгляд на эту мелкую подробность приводящей в волнение красоты-как на самолет, кажущийся в небе не больше мошки.
Министр что-то невразумительно промычал. Но в руки взять пожелал.
- Извините, пыль! - смутилась госпожа Штемлер. Подняла фигурку, поворачивая перед Дитрихом то одной, то другой стороной, дабы заставить ее, словно бриллиант, засверкать красотой.
- Да, конечно, - пробурчал он в ответ на все ее старания и решил отвязаться. - Эта даже не уродлива.
Она сняла с полки еще одну и еще. Ей захотелось ковать железо, пока оно горячо.
- А эта? - спрашивала она. - А эта? Видите! - говорила она, обрадованная, что Дитрих и сам убедился.
Он, однако, поднял обе руки вверх. Отмахнулся от всего этого.
- Одна еще сносная, - фыркнул он. - А следующие-это уже масло масляное. Деревенский дурачок Ясь один, может быть, забавен, но вы мне велите принимать целый парад. Я от своего не отступлюсь. Крестьяне должны быть людьми взрослыми!
Она вытирала статуэтку платком, словно собственное залитое слезами лицо. Удерживала ее от того, чтобы заплакать, только слабенькая надежда на то, что Дитрих убедится сам. Это было для нее важно. Дело не в Дитрихе и не в мужике, но для нее приобретение такой фигурки было глубокой внутренней потребностью, она заняла прочное место в ее сердце, переполненном изливавшимся на все вокруг теплым чувством привязанности к стране, о которой она не раз думала, что если по крови она и не полностью принадлежит к этому краю, то сердцем приросла к нему. Как же сказать об этом министру. Тем временем внимание его рассеялось. Когда Дитрих наткнулся на госпожу Штемлер, он искал совсем другого человека. Слуга отворил двери. Министр заглянул в гостиную. Где же эта Завиша? "Легче будет ее иметь, чем отыскать". Он тем больше разозлился, что о первом он и не помышлял вовсе. Хотел только посидеть. Сделать первый шаг.
Немножечко возбудиться, когда она начнет вертеться подле него.
Ведь, кажется, она из тех, на кого министр весьма сильно действует. Куда же она запропастилась!
Глиняные фигурки стояли в ряд, на каждой яркое пятнышкона руке, на голове, у горшочков блестели брюшко или только один клювик, напоминавший собачий нос. В приглушенном свете прихожей взгляд госпожи Штемлер переползал с одного предмета на другой. Каким же образом отстоять их! С полевыми цветами тоже все кончено, если они не придутся по вкусу сразу, ведь вряд ли их можно полюбить по рассудку. А как было со мной? - думает Штемлер и сама себя обрывает. Поскольку у нее-то это вкус благоприобретенный, очарование, которое призвано было заменить иное. Щеки ее покрываются румянцем. Из всех уголков памяти нахлынули на нее воспоминания о разговорах с Медекшей, о разных его намеках и фразах, которых он не оканчивал и которые давали ей такую обильную пищу для размышлений. Так, значит, не надо следовать велению сердца? Простому желанию, чтобы дом ее был во всем ПОЛБСКИЙ? Госпожа Штемлер боготворит Брандта', слуцкие пояса, польский фарфор. Ей бы и в голову не пришло сказать, что столовое "станиславовское" серебро к ней перешло по наследству. Но любит она его необыкновенно. Его прелесть совершенно непередаваема, так как оно истинно польское. Так что же связывает ее со всем польским-на такой вопрос у госпожи Штемлер ответа нет. Ибо она никогда его себе не задает. Она здесь, здесь была ее семья, из поколения в поколение речь ее сближалась с польской, пока не достигла грани совершенства. Госпожа Штемлер не знает даже, что существуют правила. Она отбросила прочь костыли. И никогда не допустит ни малейшего отклонения. Она не может споткнуться. Что-то в ней неизменно начеку.
- Разве я должна быть космополиткой, чтобы не быть смешной? допытывалась она у Медекши, который отговаривал ее от покупки известной коллекции гравюр Ходовецкого^-Вы что, согласитесь считать меня полькой только в том случае, если я не буду слишком стараться стать ею?
Медекша не любил уловки, к которой постоянно прибегал во всех подобного рода разговорах с госпожой Штемлер. Она, мол, должна искать свой собственный стиль! Да ведь он у нее есть, тот самый, каким бы он восхищался, будь он не у нее. Ее тянул к себе польский стиль, стиль шляхетского искусства, культурной польской усадьбы. Какое у нее на это изумительное было чутье!
А он, обреченный на то, чтобы, интригуя, внушать ей к нему отвращение, вздыхал и качал головой. Он чувствовал себя ответственным за Штемлеров. Его отношения с хозяйкой дома не были тут ни для кого секретом. Мог ли он допустить, что супруги Штемлеры станут посмешищем. Пара выкрестов с рыцарскими доспехами в зале. От одной этой мысли у него мороз пробегал по коже. Если бы их можно было прельстить-вот-вот! - европейским интерьером в духе восемнадцатого века. Добротная английская мебель той эпохи, картины и ткани. Нет! Это бы не прошло. Медекша всерьез относился только к подлинным вещам.
Те бьыи дороги. Штемлер страшно скуп. Она-равнодушна.
Подогреваемая своей страстью, она сумела бы вытянуть у мужа деньги на кольбушовский3 столик, но на "чиппендейла" - никогда.
Страсть ее была однобока. Либо то, либо ничего-так, казалось, она чувствовала. Медекша впадал в отчаяние.
- Вы же, князь, не говорите так из-за того, что я еврейка? - огорченно усомнилась она.
А почему же тогда? Но что он мог ответить. Перед этим порогом искренности он пасовал из-за своей деликатности и ни за что б не переступил этого порога.
- Ну и мысли у вас, - воскликнул он с негодованием, вполне искренним потому, что впервые слышал, как о подобных вещах спрашивают так прямо; об этом можно i сверить лишь недомолвками. И стало ясно. что о старинных польских вещах им лучше больше не беседовать. А тем временем они продолжали любить свой особый мир--и тем судорожнее, чем больше неудобств он им доставлял. Мало-помалу Медекша старался позабыть обо всем остальном и наконец ушел с головой в старинные отечественные изделия. Тут и совесть подсказала ему, 'по до сих пор он недооценивал их, да и заступник брал и нем верх, поскольку по службе он защищал их, слывя ^покатом древностей. Но был у этого его сентиментальною чудачества и еще один источник. Раз или два он не сдержал восклицания:
- Ну и кто бы о пас такое подумал' Раннее польское готическое искусство потрясло его. Не сразу.
Сначала ему сделалось как-то стыдно, как-то нс по себе из-за этого обезьянничанья. Ему и в i олову не пришло даже, что это не были вещи. ко1да-то откуда-то вывезенные. Uce знают, что они не наши, и это вполне понятно, какими же им еще быть! Его огорчало то, что нс все тут было ясно. Он скомкал каталог. 'Гак разозлился, что тотчас же вышел, но в трамвае заглянул в предисловие. Мы? - удивился он и глубоко задумался. Мы? бормотал он себе под нос, словно сам себя допрашивал, не видел ли он случаем чего-нибудь, что могло бы подтвердить уму непостижимое желание, чтобы творения эти оказались польскими.
И призывал на помощь всю свою память, надеясь, что из бесконечно далеких своих уголков она в конце концов вытащит на свет божий образ старого резчика, именно одного из этих.
Он вернулся на выставку. И возвращался еще не раз.