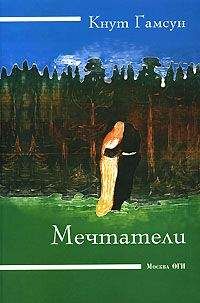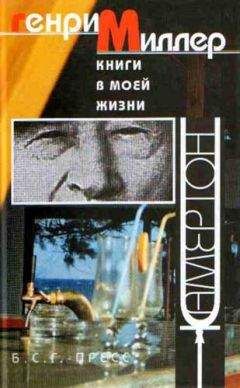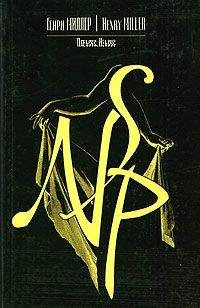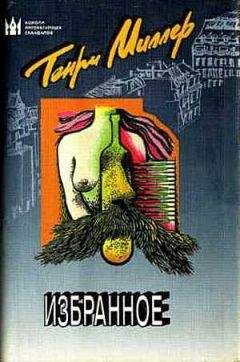так вот, мои книги -- что-то наподобие поля, которое я обследовал тщательно, как геодезист, и не в кабинете, вооружившись пером и графиками, а физически, ползая на четвереньках и на брюхе, прощупывая сантиметр за сантиметром, -- и так долгие недели, все равно, какая ни выдалась погода. Короче говоря, работа эта для меня и сейчас столь же буднична, как была в самом начале, и может быть, даже более привычна. Финал книги я всегда воспринимал лишь сугубо физически: нужно переменить позу. Книга могла бы завершаться тысячью других развязок. В ней ни одна часть не была по-настоящему окончена, и я мог бы возобновить рассказ с любого места; продолжить его, прорыть новые каналы и туннели, построить новые дома, фабрики, мосты, населить это пространство новыми обитателями, изменив фауну и флору, причем все это не меньше, чем прежде, отвечало бы фактам, которых я коснулся в произведении. Собственно, ни завязки, ни финала у меня не бывает. Жизнь начинается в любой момент, когда происходит акт понимания; так и книга. Однако всякое начало -- книги ли, страницы, абзаца, фразы, предложения -- знаменует собой завязавшуюся новую жизненную связь, и вот в эту жизненность, непрерывность, вневременность, неизменность мыслей и событий я каждый раз ныряю заново. Любое слово, любая строка жизненно связаны с моим существованием -- только моим, будь то какой-то поступок, случай, факт, какая-то мысль или эмоции, какое-то желание, бегство, томление, мечта, фантазия, причуда, вообще нечто недовершенное и
14
бессмысленное, что застряло у меня в мозгу и оплетает его вроде рвущейся паутины. Хотя в общем-то не бывает ничего расплывчатого, туманного -- даже такие "нечто" жестко очерчены, неразрушимы, определенны и прочны. И сам я вроде паука -- все тку и тку, верный своему призванию и сознающий, что эта паутина выткана из вещества, которое есть я сам, а оттого никогда не подстроит мне ловушку и никогда не иссохнет.
Поначалу я мечтал о соперничестве с Достоевским. Надеялся, что раскрою перед миром неистовые и загадочные душевные борения, а мир замрет, пораженный. Но довольно скоро я понял, что мы уже прошли точку, запечатленную Достоевским, -прошли в том смысле, что дегенерация увлекла нас дальше. Для нас исчезло само понятие души, вернее, оно теперь является в каком-то химически преображенном и до странности исказившемся виде. Мы знаем лишь кристаллические элементы распавшейся и сокрушенной души. Современные художники выражают это состояние, видимо, даже откровеннее, чем писатели: Пикассо -- замечательный пример в подтверждение сказанному. Оттого для меня оказалась невозможной сама мысль писать романы и столь же невозможным -- примкнуть к разным литературным движениям в Англии, Франции, Америке, потому что все они вели к тупику. Со всей честностью признаюсь, что ощутил себя вынужденным, наблюдая разрозненные, распавшиеся элементы жизни, -- я говорю о жизни души, не о жизни культуры, -соединять их по собственному моему рисунку, используя собственное мое распавшееся и сокрушенное "я" с той же бессердечностью, с той же безоглядностью, с какой готов я был использовать весь сор окружающего мира феноменов. Я никогда не испытывал ни враждебности, ни настороженности по отношению к анархии, воплощенной в преобладающих художественных формах, наоборот, всегда радовался исчезновению былых норм. В эпоху, отмеченную распадом, исчезновение представляется мне добродетелью, более того, моральным императивом. Я не только никогда не испытывал малейшего желания что-то законсервировать, искусственно оживить или сберечь, оградив стенами, но скажу больше -- смолоду считал, что распад такая же чудесная и творчески заманчивая манифестация жизни, как и ее цветение.
Должен, видимо, признать, что к писательству меня тянуло, поскольку это было единственное, что мне оставалось открыто и заслуживало приложения сил. Я честно испытал все иные пути к свободе. В так называемом реальном мире я был неудачником по собственной воле, а не по
15
неспособности к нему приладиться. Писательство не было для меня "бегством", иначе говоря, способом отгородиться от повседневной реальности; наоборот, оно означало, что я еще глубже ныряю в этот замусоренный пруд -- с надеждой добраться до родников, постоянно обновляющих плещущуюся в нем воду, не замирающих, вечно бьющих. Оглядываясь на свой путь, я вижу себя человеком, способным взяться почти за любую задачу, за любое дело. К отчаянию меня привели монотонность и стерильность всего внешнего бытия. Мне нужно было такое царство, в котором я буду одновременно и господином, и рабом, а им могло стать лишь искусство. И я вошел в этот мир, не обладая никакими явными талантами, ничего не умея, ни к чему не годясь, -- неловкий новичок, который почти онемел от страха и понимания грандиозности того, за что берется. Мне пришлось строить кирпичик за кирпичиком, изводить миллионы слов, пока на бумаге не появилось то настоящее, доподлинное слово, которое я вытянул из своего сокровенного нутра. Я умел гладко говорить, и это мне мешало; у меня были все пороки просвещенного человека. Мне предстояло учиться думать, чувствовать, видеть совершенно по-новому, забыв про свое образование, на собственный лад, а труднее этого ничего нет на свете. Надо было броситься в поток, зная, что я, возможно, не выплыву. В большинстве своем художники бросаются в поток, сначала обзаведясь спасательным кругом, и чаще всего этот крут их и губит. Никому не дано странствовать по океану реальности, если отгораживаешься от опыта. Если в жизни что-то меняется к лучшему, то не путем приспособления, а благодаря вызову и способности откликнуться слепому побуждению. "Дерзание не бывает фатальным", -- сказал Рене Кревель, и эту сентенцию я запомнил навсегда. Вся логика, на которой держится вселенная, пре-дуказана дерзанием или же творчеством, основывающимся на самой ненадежной, самой шаткой поддержке. Сначала такое дерзание отождествляют с волевым актом, но проходит время, и воля ослабевает, а остается автоматический процесс, который в свою очередь тоже надо прервать, остановить, чтобы утвердилась новая уверенность, ничего общего не имеющая со знанием, умением, навыком или верой. Дерзание дает возможность приобщиться к этой загадочной -- сплошной Икс -- позиции художника, которая одна тебя и оберегает в мире, и никому не выразить словами, что она такое, но тем не менее она есть и видна в каждом написанном тобою слове.
1941
16
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. МИЛЛЕРА (из книги "Моя жизнь и моя эпоха")
1891 -- 26 декабря родился в Нью-Йорке, в Йорквилльском округе Манхэттена. Родители -- американцы немецкого происхождения. В том же году семья переехала в Бруклин.
1892 -- 1900 Проживал на улицах Уильямсберга в Бруклине -- в округе, получившем известность как Четырнадцатый.
1901 -- 1900 Переехал на "улицу ранней скорби" (Декатур-стрит) в Бушвикском округе Бруклина.
1907 -- Встретил свою первую любовь, Кору Сьюард, в средней школе Восточного округа Бруклина.
1909 -- Поступил в Нью-йоркский муниципальный колледж и через два месяца оставил его, взбунтовавшись против методов обучения. Устроился на работу в финансовый отдел "Атлас Портлэнд Симэнт Компани", Нью-Йорк. Начался период суровой спортивной дисциплины, длившийся семь лет.
1910 -- Начало романа с первой возлюбленной -- Паолиной Шуто из Фобуса, штат Вирджиния, -- женщиной, которая годилась мне в матери.
1913 -- Путешествовал по Западу. Стремясь порвать с городской жизнью, нанимался работником на ранчо. В Сан-Диего познакомился с Эммой Голдман, знаменитой анархисткой; эта встреча перевернула всю мою жизнь.
1914 -- Вернулся в Нью-Йорк, работал в ателье отца, стараясь взвалить бремя деловых обязанностей на служащих. Познакомился с Фрэнком Харрисом; это была моя первая встреча с большим писателем.
1917 -- Женился на Беатрисе Сильвас Виккенс, пианистке из Бруклина.
17
1919 -- Родилась дочЬг Барбара Сильвас, ныне известная как Барбара Сэндфорд.
1920 -- Проработав несколько месяцев курьером, повышен до ранга администратора по найму в почтовом отделении компании "Вестерн Юнион" в Нью-Йорке.
1922 -- Во время трехнедельного отпуска в "Вестерн Юнион" написал первую книгу "Подрезанные крылья".
1923 -- Влюбился в Джун Эдит Смит, работавшую платной партнершей дансинга на Бродвее.
1924 -- Ушел из "Вестерн Юнион", решив навсегда покончить со службой и полностью отдаться писательскому делу. Развелся с первой женой и женился на Джун Смит.
1925 -- Всерьез взялся за ремесло писателя, сопровождаемое полной нищетой. Обходя дом за домом, продавал сборник своих стихотворений в прозе "Меццо-тинто".
1927 -- С женой Джун открыл бар-закусочную в Гринвич-Виллидж. Работал в управлении по садам и паркам в округе Куинс, за 24 часа собрал материал для обширного автобиографического романного цикла. Выставил акварели в "Римской таверне Джун Мэнсфилд", в Гринвич-Виллидж.
1928 -- За год объездил с Джун Европу на деньги, которыми снабдил ее один из поклонников.