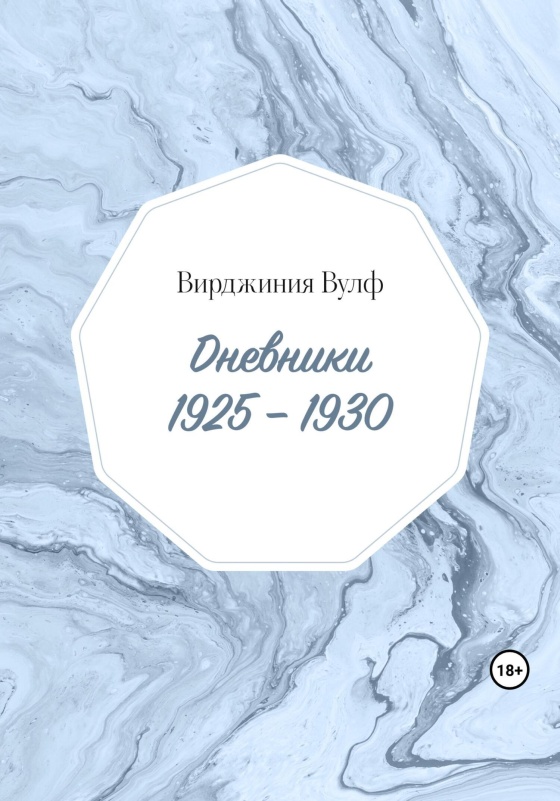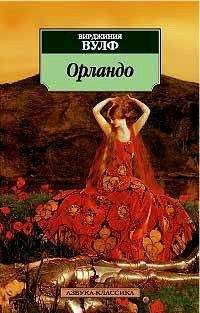долину. Забежав через садовую калитку, он взлетел по винтовой лестнице, ворвался в свою комнату, швырнул чулки в одну сторону, колет в другую. Ополоснул лицо и руки, подстриг ногти. Глядя на себя в зеркальце не больше шести дюймов при свете пары огарков, он напялил алые бриджи, кружевной воротник, камзол из тафты и туфли с огромными, как цветок георгина, бантами, потратив менее десяти минут. Вот теперь готов! Лицо его пылало, сердце радостно билось, но опаздывал он ужасно!
Выбирая кратчайший путь, юноша торопливо зашагал по бесчисленным анфиладам комнат и лестниц в банкетный зал, находившийся в пяти акрах на другой стороне дома, однако на полдороге, в задних помещениях, где жила прислуга, внезапно остановился. Гостиная миссис Стьюкли стояла нараспашку – несомненно, сама она ушла по зову хозяйки, прихватив все свои ключи. И там, за обеденным столом, с пивной кружкой и стопкой бумаги сидел довольно тучный, потрепанный жизнью человек в несвежем плоеном воротнике и одежде из темного домотканого полотна. В руке он держал перо, но не писал. Похоже, обдумывал какую-то идею так и эдак, мысленно гонял туда-сюда, пока та не обретет нужную форму или накал. Глаза, круглые и мутные, словно зеленый камень причудливой фактуры, смотрели неподвижно. Орландо он не заметил. Невзирая на спешку, юноша застыл как вкопанный. Не поэт ли? Не пишет ли стихов? «Скажите, – хотелось ему спросить, – есть ли в целом свете?..» – ибо у юноши были весьма дикие, нелепые, причудливые представления о поэтах и стихах – но как разговаривать с тем, кто тебя в упор не видит? С тем, кто сейчас зрит великанов-людоедов, сатиров или морские глубины? Незнакомец повертел в руках перо, глядя в никуда и размышляя, стремительно начеркал полдюжины строк и поднял взгляд. Оробев, Орландо бросился прочь и влетел в банкетный зал как раз вовремя, чтобы преклонить колена и, смущенно опустив голову, протянуть великой королеве чашу с розовой водой.
Он так смутился, что видел лишь руку с перстнями, опущенную в воду, но и этого ему хватило. И что это была за рука! Тонкая, с длинными скрюченными пальцами, словно сжимает державу или скипетр; нервическая, гневливая, недужная; и в то же время рука властная, которой довольно подняться – и чья-то голова упадет с плеч; рука, догадался он, соединенная со старым телом, что пахнет словно пропитанный камфарой шкаф, где хранятся меха; телом, украшенным всевозможными драгоценными камнями и парчой, что держится очень прямо, несмотря на радикулитные боли, и ни разу не дрогнет, хотя и сковано тысячей страхов, а глаза у королевы – светло-желтые. Все это он постиг, когда массивные перстни блеснули в воде, и вдруг почувствовал прикосновение к волосам – что, вероятно, объясняет, почему Орландо не увидел ничего более полезного для пера историка. По правде говоря, разум юноши пребывал в полном сумбуре – ночь и горящие свечи, потасканный поэт и великая королева, притихшие поля и галдеж слуг – он не видел ничего, разве только руку.
Судя по всему, сама королева видела лишь склоненную голову. Однако, если по руке можно сделать выводы о теле, наделенном всеми атрибутами великой государыни, о ее гневливости и мужестве, немощи и страхах, столь же выразительна и голова, на которую взирает с трона леди, чьи глаза всегда, если верить восковой скульптуре в Вестминстерском аббатстве, всегда широко распахнуты. Темноволосая головка с длинными кудрями склоняется перед нею столь почтительно, столь невинно, что невольно подразумевает наличие самых красивых на всем дворе аристократических ножек, фиалковые глаза, золотое сердце, преданность и мужское обаяние – все качества, что женщина в старости ценит тем больше, чем меньше они ей доступны. Ибо она постарела, поблекла и согнулась не по годам. В ушах ее вечно гремела канонада. Перед глазами вечно маячили капля яда и длинный стилет. Сидя за столом, она в страхе прислушивалась: то ли выстрелы за Ла-Маншем, то ли заговор, то ли просто шепот. Тем дороже казались ей на этом темном фоне невинность и простота. Согласно преданию, в ту самую ночь, пока Орландо крепко спал, королева передала в дар его отцу, по всей форме приложив руку и печать к пергаменту, сию огромную обитель, некогда принадлежавшую архиепископу, а затем королю.
Орландо проспал в неведении всю ночь. Королева его поцеловала, а он и не знал. Вероятно, именно благодаря его неведению – женские сердца весьма прихотливы – и тому, как он вздрогнул, когда она коснулась его губами, юный кузен (ибо они состояли в родстве) запал ей в душу. В любом случае не прошло и пары лет тихой сельской жизни, и Орландо написал не более двадцати трагедий, дюжины историй и десятка сонетов, как ему было велено явиться к королеве в Уайтхолл.
– А вот и мой невинный мальчик! – объявила она, наблюдая, как Орландо шагает по длинной галерее. (В нем всегда была безмятежность, которая воспринималась как невинность, даже после утраты последней.)
– Иди же! – велела она.
Королева сидела у камина безупречно прямо, будто кол проглотив. Поманила Орландо к себе, осмотрела с головы до ног. Сравнивала ли королева впечатления той ночи с истинным обликом юноши? Оправдалась ли ее догадка? Глаза, рот, нос, грудь, руки – она пробежалась по ним взглядом, и губы ее заметно дрогнули; увидев же ноги Орландо, рассмеялась в голос. Снаружи – благородный дворянин, а что внутри? Желтые, как у ястреба, глаза сверкнули, пронзая душу насквозь. Юноша выдержал взгляд, хотя и зарделся, словно дамасская роза, что очень ему шло. Сила, грация, романтичность, безрассудство, поэзия, юность – она его читала, словно открытую книгу. Решительно стянув с распухшего сустава перстень, надела на палец юноши и нарекла своим казначеем и сенешалем, повесила на шею должностную цепь, велела преклонить колено и самолично затянула на самом узком месте украшенный драгоценными камнями Орден Подвязки. С тех пор Орландо не знал отказа ни в чем. Во время торжественных выездов он скакал верхом возле дверцы кареты. Елизавета послала его к несчастной королеве Шотландии с печальным известием. Орландо собирался отплыть на польскую войну, но не вышло. Могла ли она смириться с тем, что нежную плоть юноши искромсают, и кудрявая головка будет валяться в пыли? Королева оставила его при себе. С высоты своего триумфа, когда в Тауэре палили пушки и воздух настолько пропитался порохом, что тянуло чихать, а под окнами раздавались ликующие крики толпы, она привлекла его к себе, на подушки, куда ее уложили фрейлины (королева стала совсем стара и слаба), и заставила зарыться лицом в умопомрачительное амбре – платье