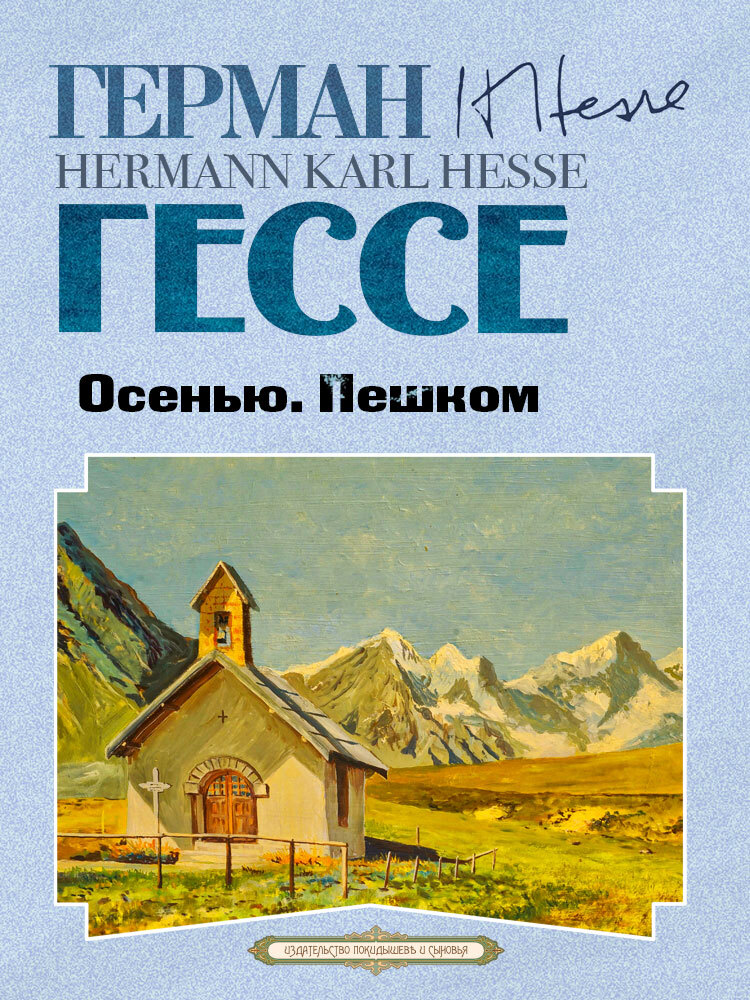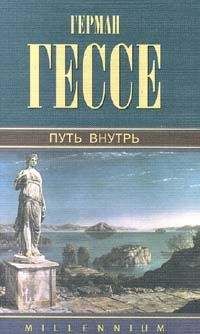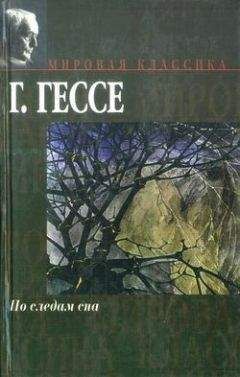поводу новой одежды. Он нерешительно стоял перед зеркалом и размышлял, пойти ли ему еще прогуляться или остаться дома, когда в дверь его вдруг постучались, и раньше, чем он успел ответить, в комнату вошел крупный, статный мужчина, в котором он тотчас узнал Соломона Адольфа Вольфа, целителя, посетившего его несколько месяцев назад в его тирольском отшельническом жилище. Вольф крепко потряс руку «друга» и удивился его свежему элегантному виду. Сам он был все в той же коричневой шляпе и сюртуке, но на этот раз у него появился черный жилет и новые светло-серые брюки, сшитые, однако, по-видимому, на другие, более длинные ноги, так как они собирались над его сапогами гармошкой. Он заговорил о сегодняшних речах и спорах и охотно принял приглашение отужинать вместе.
В послеобеденном собрании красивый длинноволосый русский говорил о растительной пище и социальном зле, называл невегетарианскую часть человечества пожирателями падали и вызвал этим настоящий скандал. Партийные страсти разгорелись, во время перебранки слово взял анархист, и его пришлось удалять с трибуны при помощи полицейских. Буддисты безмолвной стройной процессией покинули зал, теософы тщетно призывали к миру. Один оратор прочитал сочиненную им самим «союзную песнь будущего» с припевом:
«Мир мирским владей!
В союзе лишь благо людей!»
На этом собрание закончилось и публика разошлась, наконец, смеясь и ругаясь. Во время ужина Вольф повеселел и сообщил, что завтра и сам будет выступать в зале собрания. Ему тяжело было внимать всем этим спорам из-за пустяков, когда сам он обладал такой простой истиной. И он изложил свое учение о «Тайне жизни», состоявшее в пробуждении заложенных в каждом человеке магических духовных сил, которые станут панацеей против существующего в мире зла.
– Вы будете, надеюсь, брат Рейхардт? – спросил он доктора.
– К сожалению, нет, брат Вольф, – ответил тот, улыбаясь. – С учением вашим я уже знаком. Сам я здесь, в Мюнхене, по семейным делам и завтра занят, к сожалению. Но если могу вам оказать какую-нибудь услугу, то с удовольствием это сделаю.
Вольф недоверчиво смотрел на него, но ничего, кроме благожелательности, в лице его прочитать не мог.
– Что ж, – быстро ответил он, – вы выручили меня минувшим летом одолжив десять крон. Я этого не забыл, хотя и не могу еще сейчас вернуть вам их. Быть может, вы опять выручите меня, – мое пребывание здесь, в интересах нашего дела, связано с расходами, которых никто мне не возмещает.
Бертольд дал ему золотую монету, еще раз пожелал ему удачи на завтра, простился с ним и пошел домой спать. Но едва он лег в кровать и погасил свет, усталости и сна как не бывало и он пролежал всю ночь с мыслями об Агнессе и тысячами горьких сомнений, на которые, однако, храбро возражало его сердце, объятое несмелой надеждой…
Он вышел из дома рано утром, возбужденный и обессиленный бессонною ночью. Немного погулял, вернувшись принял прохладную ванну, посидел еще с полчаса за чашкой чая и как только подошло время, удобное для нанесения визита, нанял экипаж и поехал к Вейнландам. На звонок его дверь открыли не скоро. Новая служанка, даже не настоящая служанка, так, девочка-подросток, удивленно спросила, что ему нужно. Он спросил, можно ли видеть хозяек, и девочка, оставив дверь открытой, побежала на кухню. Оттуда донесся разговор, и он уловил несколько фраз.
– Нельзя так! – услышал он голос Агнессы. Скажи, барышня больна. Какой он на вид?
Наконец Агнесса сама вышла в синем холщовом кухонном переднике, вопросительно взглянула на него, но ничего не сказала.
Он протянул ей руку.
– Можно войти? – спросил он.
И, ничего больше не говоря, они вошли в знакомую гостиную, где советница сидела в кресле, закутанная в шерстяную шаль, но при виде его тотчас принужденно и строго выпрямилась.
– Доктор Рейхардт пришел, – сказала Агнесса матери.
И та протянула гостю руку.
– Это хорошо, что вы вернулись, – сказала советница.
А красивая молодая пара стояла возле нее рука-об-руку с такими светлыми, счастливыми лицами, словно никогда и не расставались.
Жители Герберсау путешествуют довольно охотно. И вошло даже в обыкновение, чтобы молодой человек поглядел на свет Божий и чужие нравы, прежде чем начать самостоятельную жизнь, обзавестись семьей и войти навсегда в колею обычаев и правил родной страны. Но большинство уже после краткого странствования убеждаются в преимуществах родины, и редко бывает, чтобы кто-либо застрял на чужбине до зрелого возраста или даже навсегда. Но иногда это все же случается, и тот, кто делает это, становится знаменитостью в родном городе, которую признают нехотя, но судят и рядят, о ней бесконечно.
Таковым был Август Шлоттербек, единственный сын сыромятника Шлоттербека. Будучи ребенком он не отличался крепким здоровьем, и для дубильного дела считался непригодным. Позднее оказалось, как это часто бывает с такими детьми, что хрупкость и слабость были лишь временны и этот Август вытянулся в здорового, крепкого парня. Но он занялся уже коммерцией и, в своем конторском сюртуке с нарукавниками, на ремесленников, не исключая своего отца, глядел снисходительно, свысока и с явной жалостью. Пострадала ли от этого отеческая нежность старого Шлоттербека или же им руководило сознание, что за отсутствием других сыновей старинный родовой кожевенный завод Шлоттербеков рано или поздно все равно перейдет в чужие руки, но с годами он сталь нерадиво относиться к своему делу, жил себе в удовольствие, словно никакого потомства у него и не было, и почил, наконец, после беззаботно прожитой старости, оставив единственному сыну завод в таких долгах, что Август с радостью уступил его за бесценок одному молодому кожевнику.
Быть может, это было причиной того, что Август остался на чужбине дольше, чем того требовала необходимость. К тому же, ему жилось там хорошо и, наконец, он и вовсе думать перестал о возвращении на родину. Ему было уже лет тридцать – ни собственным делом, ни семьей ему не представилось до тех пор случая обзавестись, когда вдруг его охватило томление по дальним странам и он поехал в Англию, чтобы пополнить свои знания и не обрасти мхом, живя на одном месте. Англия и город Глазгов, где он нашел себе работу, не очень понравились ему, но космополитизм и неограниченная свобода передвижения пришлись ему по душе, и он утратил чувство связи с родиной или, вернее, распространил его на всю вселенную. И так как его здесь ничто не удерживало, то он охотно откликнулся на предложение занять место директора большой фабрики в Чикаго и вскоре также обжился в Америке,