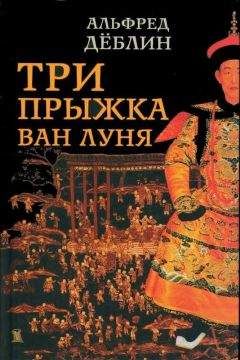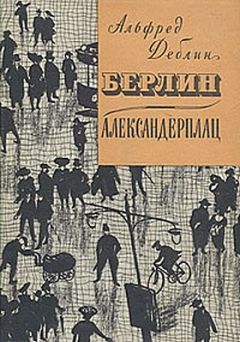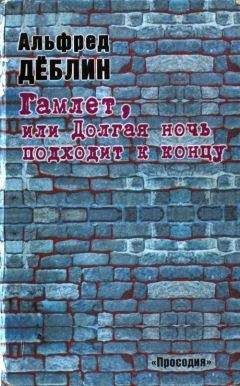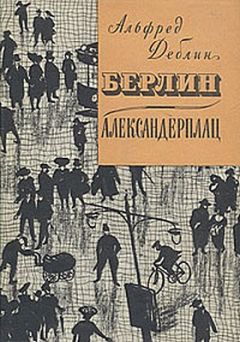Я его не знаю, он не назвал своего имени». – «И ты рассказывал ему всякие небылицы?» – «А хоть бы и так? Тебе-то что за печаль?» – «Значит, он рассказывал вам небылицы?» – обратился шатен к человеку из тюрьмы. «Да он не говорит. Он только бродит по улицам и поет по дворам». – «Ну и пусть себе бродит! Что ты его держишь?» – «Не твое дело, что я делаю!» – «Да я же слышал в дверях, что у вас тут было. Ты ему рассказывал про Цанновича. Другого ты ничего и не умеешь, как только рассказывать да рассказывать». Тогда незнакомец из тюрьмы, который все время не сводил глаз с шатена, ворчливо спросил: «Кто вы, собственно, такой? Откуда вас принесло? Чего вы вмешиваетесь в его дела?» – «Рассказывал он вам про Цанновича или нет? Рассказывал. Мой шурин Нахум все ходит да ходит да рассказывает всякие сказки и только самому себе никак не может помочь». – «Я тебя вовсе не просил мне помочь. Но разве ты не видишь, что ему нехорошо, скверный ты человек». – «А если даже ему и нехорошо, то что ты за посланец Божий выискался? Как же, Бог только того и ждал, чтобы ты явился! Одному б Ему ни за что не справиться». – «Нехороший ты человек». – «Советую вам держаться от него подальше, слышите? Наверно, он вам тут наплел, как повезло в жизни Цанновичу и невесть еще кому». – «Уберешься ли ты, наконец?» – «Нет, вы послушайте, что за мошенник этот благодетель-то! И он еще разговаривает! Да разве это его квартира? Ну, что ты опять такое наболтал о Цанновиче и о том, чему у него можно поучиться. Эх, следовало бы тебе сделаться раввином. Мы б тебя уж как-нибудь прокормили». – «Не надо мне вашей благотворительности!» – «А нам не надо паразитов, которые висят на чужой шее! Рассказал ли он вам, что сталось в конце концов с Цанновичем?» – «Дрянь, скверный ты человек!» – «Рассказал, а?» Человек из тюрьмы устало поморгал глазами, взглянул на рыжего, который, грозя кулаком, направился к двери, и буркнул ему вслед: «Постойте, постойте, не уходите. Чего вам волноваться? Пускай себе болтает».
Тогда шатен горячо заговорил, обращаясь то к незнакомцу, то к рыжему, взволнованно жестикулируя, ерзая на стуле, прищелкивая языком, подергивая головой и поминутно меняя выражение лица: «Он людей только сбивает с толку. Пусть-ка он доскажет, чем кончилось дело с Цанновичем Стефаном. Так нет, этого он не рассказывает, а почему не рассказывает, почему, я вас спрашиваю?» – «Потому что ты нехороший человек, Элизер!» – «Получше тебя. А вот почему (шатен с отвращением воздел руки и страшно выпучил глаза): Цанновича выгнали из Флоренции, как вора. Почему? Потому что его разоблачили!» Рыжий угрожающе встал перед ним, но шатен только отмахнулся. «Теперь говорю я, – продолжал он. – Оказалось, он писал письма разным владетельным князьям, что ж, такой князь получает много писем, а по почерку не видать, что за человек писал. Ну, нашего Стефана и раздуло тщеславием, назвался он принцем Албанским, поехал в Брюссель и занялся высокой политикой. Это, видно, Стефана попутал его злой ангел. Явился он там высшим властям – нет, вы себе представьте Цанновича Стефана, этого мальчишку, – и предлагает для войны, не помню с кем, не то сто, не то двести тысяч – это не важно – вооруженных людей. Ему пишут бумагу за правительственной печатью: покорнейше благодарим, в сомнительные сделки не пускаемся. И опять злой ангел попутал нашего Стефана: возьми, говорит, эту бумагу и попробуй получить под нее деньги! А была она прислана ему от министра с таким адресом: Его высокоблагородию сиятельному принцу Албанскому. Дали ему под эту бумажку денег, а потом-то оно и вышло наружу, какой он аферист. А сколько лет ему было в то время? Тридцать, больше ему и не пришлось пожить в наказание за свои проделки. Вернуть деньги он не мог, на него подали в суд в Брюсселе, тут все и обнаружилось. Вот каков был твой герой, Нахум. А ты рассказал про его печальный конец в тюрьме, где он сам вскрыл себе вены? А когда он был уже мертв, – хорошенькая жизнь, хорошенький конец, нечего сказать! – пришел палач, живодер с тележкой для дохлых собак, кошек и лошадей, взвалил на нее Стефана Цанновича, вывез за город, туда, где стоят виселицы, бросил, как падаль, и засыпал мусором».
Человек в летнем пальто даже рот разинул: «Это правда?» (Что ж, стонать может и больная мышь.) Рыжий считал каждое слово, которое выкрикивал его зять. Подняв указательный палец перед самым лицом шатена, он как будто ждал определенной реплики, теперь он ткнул его пальцем в грудь, сплюнул перед ним на пол – тьфу, тьфу! «На` тебе! Вот ты что за человек! И это – мой зять!» Шатен неровной походкой отошел к окну, бросив рыжему: «Так! А теперь говори ты и скажи, что это не правда».
Стен больше не было. Осталась только освещенная висячей лампой маленькая комната, и по ней бегали два еврея, шатен и рыжий, в черных велюровых шляпах, и ссорились между собою. Человек из тюрьмы обратился к своему другу, к рыжему: «Послушайте-ка, это правда, что тот рассказывал про того человека, что он засыпался и что потом его убили?» – «Убили? Разве я говорил „убили“? – крикнул шатен. – Он сам покончил с собой». – «Ну, пусть он сам покончил с собой», – согласился рыжий. «А что же сделали те, другие?» – поинтересовался человек из тюрьмы. «Кто это те?» – «Ну, были ведь там еще и другие, кроме самого Стефана? Не все же были министрами, да живодерами, да банкирами?» Рыжий и шатен переглянулись. Рыжий сказал: «А что им было делать? Они смотрели».
Человек в желтом летнем пальто, недавно выпущенный из тюрьмы, этот здоровенный детина, встал с дивана, поднял шляпу, смахнул с нее пыль и положил на стол, все так же не говоря ни слова, распахнул пальто, расстегнул жилетку и только тогда сказал: «Вот, извольте взглянуть на мои брюки. Вот я какой был толстый, а теперь они, видите, как отстают – целых два кулака пролезают, все от голодухи этой проклятой. Все ушло. Все брюхо к черту. Вот так тебя и мурыжат за то, что не всегда бываешь таким, каким бы следовало. Но только я не думаю, чтоб другие были намного лучше. Нет, не думаю. Только голову человеку морочат».
«Ну что, видишь?» – шепнул рыжему шатен. «Что видеть-то?» – «Да то, что это каторжник». – «А хоть бы и так?» – «Потом тебе говорят: ты свободен, можешь идти обратно в грязь, – продолжал человек, выпущенный