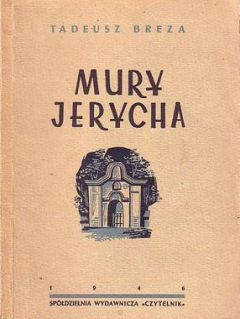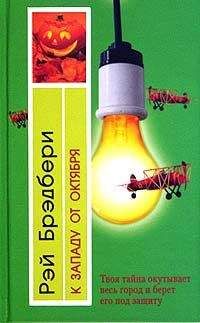А я ему в ответ, что если уж не героизм, то самопожертвование. Он рассмеялся во весь рот, ибо подобное слово вовсе его не смущало, не то, что такое, как-героизм.
- А вы знаете, ради кого? - И глаза его хитро сверкнули. - Ради этого приходского ксендза! - объявил он. - Хороший мужик, но я его поддел. Пусть и у него будет свой покойник. Это ксендзу положено. Уже если его придется хоронить, то пусть лучше он, что-то парнишка, сдается мне, очень плох. Ему грозит воспаление легких. Да еще какое!
Он присвистнул. Я запомнил, как люди говорили, что мальчик-единственный ребенок в семье, к тому же не из местных, приехал из Варшавы на праздники. Я сказал об этом Черскому. И тут вдруг исчезают из глаз Черского и лукавые искорки, и блеск, они сереют, веки медленно опускаются и наполовину прикрывают глаза. Я поразился, что так его взволновало. А он:
- Сердце, ах, как жмет. Постойте-ка. - Несмотря ни на что, мы все-таки добрались до дому без происшествий, едва, правда, тащились.
И тут Сач умолк. Он рассказал все, кроме той, последней вещи. Осмотрелся. Да. Больше уже ничего не осталось, только она. Нервный спазм сдавил горло. Сач взглянул на Аню, в глазах его была страшная усталость, словно какие-то чары утопили в них чью-то пропавшую жизнь. Он протер глаза. В них отражались не только душевные тревоги Сача, но и усталость от того, что происходило вне его, вокруг и рядом, от дыма, духоты, жарывсе это можно было прочитать в его глазах. Было светло, но свет проникал в пространство здесь с трудом, как бы дрожа от напряжения, кое в каких местах становился цветным. Голубые пласты материи, туманной, но сохранявшей жесткие продолговатые очертания, застыли на высоте окон, так что у тех, кто вставал, голова погружалась в их сияние. Стало свободней, за некоторыми столиками было по одному свободному месту, за другими по нескольку-люди покидали зал группами. Казалось, они бежали от этого дыма, а может, сама суть таких вечеров и состояла в том, чтобы люди исчезали отсюда, словно дым.
Музыка становилась все яростнее, прямо-таки отчаянной, оттого что ее никто не слышит; действительно, в зале не было ни одного человека, который обращал бы на нее внимание. Видно, в ушах людей что-то изменилось, слух стал не такой чувствительный, словно его оградили какой-то пленкой-так защищается кожа от предмета, который в нее проникает.
- И зачем вы все это мне нарассказывали? - повторила Аня. - Не понимаю!
Как цепь, выброшенная за борт, тянет за собой последние свои звенья, так и у Сача то, что он хотел сохранить для себя, готово было соскользнуть с языка. Равновесие между тем, что уже вышло на явь, и тем, что должно было остаться в тайне, давно нарушилось, секрет теперь не мог не обрести голоса.
Дерево, которое рубят в лесу, всегда задержится на секунду, прежде чем рухнуть, на то самое, особое мгновенье, когда сила тяжести уже отдала себя во власть физического закона, а он на миг приостановил свое действие. Это время, когда природа радуется собственной гармонии, видя, что подобная масса слепо подчиняется формуле. Сач поднял голову, веки, словно скорлупка, прикрывали его глаза, белые, напоминающие глазницы старинных статуй; Сач был бледен, но недостаточно выразить лицом свершенное зло, надлежало рассказать о нем. Аня, правда, успела еще прокричать:
- Так оттого, что он спас, он уже больше и не может быть подл?
Он пропустил ее крик мимо ушей. Протянул через стол руку к ней, сильно сжал ее локоть. И сам простонал:
- А я, а я, знаете ли вы, чем я занимался все то время?
Он сделал глубокий вдох.
- Рыскал у него по карманам!
Сач за локоть тянул ее к себе.
- Это мерзавец, - задыхался он, - это мерзавец. Я знаю о нем все до последнего! Он набрал без малого миллион. И все из одного источника, из этой гигантской подрядной фирмы, ведущей в основном все работы. И подумайте, - что-то наивное слышалось в этом его восклицании, спустя столько месяцев он удивлялся все тому же самому, - у него все это зафиксировано в записной книжке.
Аня потребовала, чтобы он еще раз подтвердил. Тон ее был совершенно сух.
- Значит, крал?
Он сразу же подтвердил:
- Ну естественно.
Она зло и хмуро посмотрела на Сача. Чего же она могла добиться. Одного только-доставить ему неприятности. И всетаки сказала:
- А чего вы ждете?
Он не хотел с ней ни о чем договариваться, он хотел просто во всем признаться.
- Я не могу. Я не могу. - Он отказывался с какой-то нарастающей поспешностью. - Я не могу опереться на это. Не могу касаться этого источника. Целый год я не терял надежды. Я ведь знаю его расходы, они вдесятеро превышают легальные доходы. Знаю я об этом. И вовсе не благодаря той минуте.
И потому беру на заметку. Тысячью способов стараюсь его схватить за руку. Но только один способ для меня невозможен.
И в полном отчаянии Сач простонал:
- А другого-то и нет!
Она повторила за ним, словно эхо.
- Вам трудно воспользоваться!
Он и не заметил, что в словах ее нет и тени иронии.
- Я тогда не сразу понял, только позднее. Послушайте! - Он взглянул на нее широко открытыми глазами. - Пусть он говорит, что хочет, но он ведь в тот момент рисковал. Нельзя было его трогать.
Ей пришла в голову мысль, что, может, и в самом деле милосердие, самоотверженность и сострадание-это для преступников, как и в средневековье, костел. Убежище. На его пороге погоня прекращается.
- Один. такой крохотный добрый поступок, - вздохнула она, - оплачивает его покой. А все преступления, вместе взятые, никакого ущерба ему не приносят? - спросила она. - Вы возвращаетесь туда?
Да, он возвращался. Сам не знал, зачем. Он усомнился, что свалит Черского. Это был человек, напоминавший огромную глыбу с сотнями граней, все как хрусталь, только не с той единственной стороны, которую он так мастерски укрывал. Сач просмотрел у Черского каждую бумажку-не нашел ничего.
Второй раз до его записной книжки добраться он не мог. Стянуть ее не составляло для него никакого труда, но не было никакой гарантии, что ему удалось бы положить ее на место, если бы он ничего там не обнаружил. А Сач требовал от себя, чтобы к вещам, которые носит с собой Черский, относиться так, как будто он ничего о них не знает. Подходил к концу третий квартал, но случая еще раз добраться до записной книжки, не сжигая за собой мостов, больше не подвертывалось. А к тому же он уже так хорошо изучил Черского, его привычки, что понял одно: такой оказии можно дожидаться годами.
- Я возвращаюсь, - прошептал он. - Не могу я оторваться от этого дела. - И с горькой усмешкой добавил: - Я словно рыцарь, который знает волшебное слово, способное пробудить спящую царевну, но которому нельзя его произнести.
И внезапно, чуть не плача, прокричал:
- Я вас теряю!
Глаза ее засветились. Он застал ее врасплох, словно перешел на иностранный язык. Да еще незнакомый. Аня и в самом деле не понимала языка чувств, вот и сейчас она не могла понять отчаяние Сача, тем более что и самой ей было невесело, притом по причинам совершенно иным. Она не сводила глаз с Юлека, в них вовсе не было гнева, в них было сочувствие, и даже больше, чем сама она думала, - сочувствие, которого хватит-надолго. Она пыталась разобраться в том, что руководило Сачем. Поверила в его благородство. У нее и мысли не возникало, что он пытался улизнуть или прикрывал собственную слабость. Ее коллега в походе на Черского отказывался идти дальше. Она почувствовала то же самое, что пережила несколько лет назад во время поездки в Татры. Ее спутница, только когда ей стало плохо далеко от базы, призналась, что у нее больные легкие. Тогда, как и сейчас, к жалости и сочувствию примешалось и раздражение, но она не позволила ему проявиться ни в мыслях, ни тем более в словах.
Кстати, в благородстве и чахотке было для Анны какое-то очарование, временами, может, даже и немалое, но не в подобных случаях, как сегодня или как тогда в горах, когда они начинали мешать различным ее планам. Сач вслушивался, что принесет ему эхо в ответ на его крик. В словах Ани он уловил типичные нотки прощанья.
- Мне всегда приятно будет увидеться с вами.
Слова эти обычно произносит тот из любовников, который решил связать свою судьбу с кем-то другим. Сач встал, руки его страшно тряслись, и Ане стало не по себе. Никогда он не чувствовал яснее, как бесконечно привязался к этой девушке, - путь к сердцу ее, единственный, был гак верен, но им-то он и запретил себе пойти. С) чем она может сейчас думать? - вопрос этот терзал его. Наверное, уже не обо мне. И чтобы привлечь ее внимание к тому, что он еще может принести ей пользу, Сач начал умолять:
- Позвольте мне убить его.
Но это неправда, что смерти Черского было ей слишком мало.
Аня, натура впечатлительная, содрогалась от одной мысли об этом. Всякая смерть для нее была чем-то чрезмерным. Она всегда это чувствовала, но никогда так отчетливо, как сейчас, когда Сач молил ее.
- Нет, - нервно ответила она, - не хочу, не хочу.