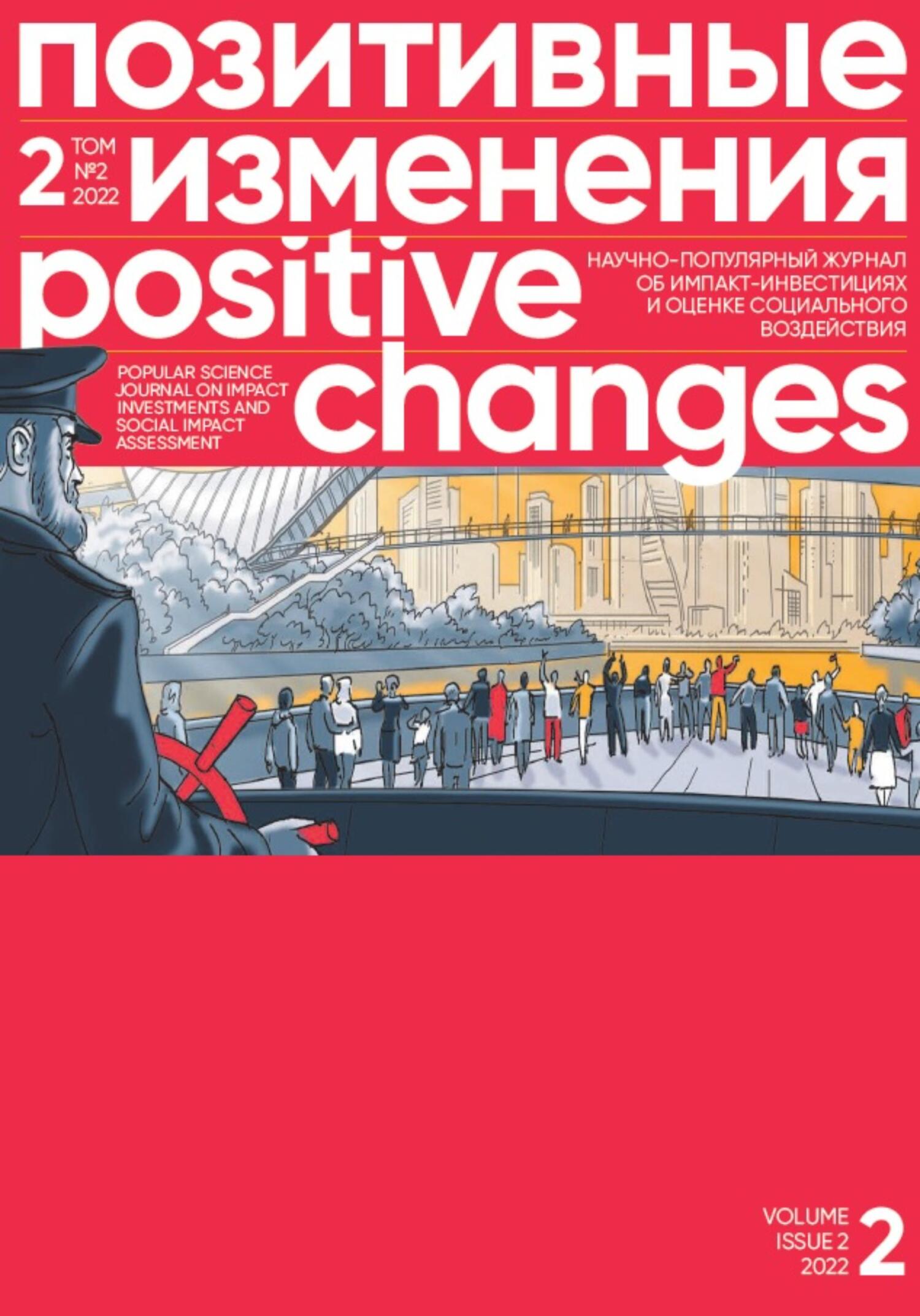человека стала интенсивной, а не экстенсивной».
Вот этого я, признаюсь, совершенно не понимаю. По-моему, противопоставление двух неопровержимых категорий, пространства и времени, – явная ошибка. Как известно, у этого заблуждения длинная родословная, и самое звучное имя среди его предков – это имя Спинозы, который наделил свое равнодушное божество, Deus sive Natura [13], мышлением (то есть пониманием времени) и протяженностью (то есть пространством). Думаю, для настоящего идеализма пространство – одна из форм, которые в совокупности и составляют оцепенелое течение времени. Пространство – такое же событие, как прочие, и потому, вопреки естественному согласию оппонентов метафизики, располагается во времени, а не наоборот. Иными словами, расположение в пространстве – выше, слева, справа – один из частных случаев протяженности наряду с другими.
Поэтому накопление пространства не противостоит накоплению времени: первый процесс – одна из разновидностей второго и единственно для нас возможного. Англичане, в результате случайного или гениального порыва письмоводителя Клайва либо Уоррена Гастингса завоевавшие Индию, накапливали не только пространство, но и время. Иначе говоря, опыт: опыт ночей, дней, равнин, откосов, городов, коварства, героизма, предательства, страдания, судьбы, смерти, чумы, хищников, радостей, обрядов, космогонии, диалектов, богов, благоговения перед богами.
Но вернемся к метафизике. Пространство есть событие во времени, а не всеобщая форма интуиции, как полагал Кант. Целые области бытия – сферы обоняния и слуха – обходятся без пространства. Подвергая доводы метафизиков беспощадному анализу, Спенсер («Первоосновы психологии», часть седьмая, глава четвертая) убедительно подтверждает эту независимость и во многих параграфах развивает ее, доводя до абсурда: «Считающие, будто запах и звук принадлежат пространству как форме интуиции, легко убедятся в своей ошибке; пусть они попытаются найти левую или правую сторону звука или попробуют себе представить изнанку запаха».
Шопенгауэр – с меньшей экстравагантностью, но с куда большим чувством – уже провозглашал эту истину. «Музыка, – писал он, – такое же непосредственное воплощение воли, как мироздание» (цит. соч., том первый, глава 52). Иными словами, музыка может существовать и без окружающего мира.
Продолжая и упрощая два этих знаменитых соображения, хотел бы дополнить их своим. Представим себе, что людской род ограничивается реальностью, воспринимаемой лишь слухом и обонянием. Далее представим, что зрение, осязание и вкус упразднены вместе с пространством, которое они очерчивали. И наконец – идя логическим путем, – представим себе самое обостренное восприятие с помощью двух оставшихся чувств. Человечество – каким призрачным оно после этой катастрофы ни покажется – продолжало бы ткать свою историю и дальше. Человечество забыло бы, что когда-то обладало пространством. Жизнь в этой не тяготящей слепоте и бестелесности осталась бы столь же пылкой и столь же скрупулезной, как наша. Я не хочу сказать, что это гипотетическое человечество (с его нисколько не меньшей, чем у нас, волей, нежностью и непредсказуемостью) добралось бы до пресловутой сути: я лишь утверждаю, что оно существовало бы без и вне какого бы то ни было пространства.
1928
Бедность нашей словесности, ее неспособность увлечь читателя породили своеобразный стилистический предрассудок – рассеянное чтение при внимании к деталям. Те, кто страдает этим суеверием, понимают под стилем не силу или бессилие той или иной страницы, а очевидные приемы автора: его сравнения, звукопись, особенности работы с синтаксисом и пунктуацией. Читатели безразличны к авторской позиции как таковой, к эмоциям как таковым: они ищут маячки (как выразился Мигель де Унамуно), которые дали бы им понять, имеет ли написанное право им понравиться. Они слышали, что эпитет не должен быть тривиальным, и думают, что страница плохо написана, если на ней нет оригинальных сочетаний существительных и прилагательных, даже если достигнута главная цель текста. Они слышали, что лаконичность – это добродетель, и считают лаконичным того, кто растягивает текст десятью короткими фразами, а не того, кто управляется с одной длинной. (Образцовые примеры такой шарлатанской краткости, этой сентенциозной пылкости можно отыскать в речах известного датского чиновника Полония из «Гамлета» или же у Полония из реального мира – по имени Бальтасар Грасиан.) Они слышали, что близость повторяющихся слогов неблагозвучна, и притворяются, что в прозе она приносит им страдание, а в поэзии – особого рода наслаждение, хотя полагаю, что и здесь они лукавят. Иными словами, они обращают внимание не на эффективность механизма, а на его конструкцию. Они подчиняют чувства этике, а точнее – непреложному этикету. Подобная точка зрения стала настолько распространенной, что читателей в собственном значении слова уже нет – все стали потенциальными критиками.
Этот предрассудок настолько общепринят, что теперь никто не отважится признать отсутствие стиля в произведениях, где его на самом деле нет, особенно если дело касается классики. Не существует хороших книг без привязки к стилю, без этого не может обойтись никто, кроме разве что автора. Обратимся к примеру «Дон Кихота». Когда величие этого романа уже было доказано, испанская критика не хотела и помыслить, что главная (быть может, единственная неоспоримая) его ценность состоит в психологии, и приписала ему стилистические достоинства, каковые для многих наверняка остаются загадкой. Действительно, достаточно перечитать всего несколько абзацев из «Дон Кихота», чтобы понять, что Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем акустически украшательском значении слова), – он слишком живо интересовался судьбами Дон Кихота и Санчо, чтобы позволить себе отвлекаться на собственный голос. В «Остроумии, или Искусстве изощренного ума» – столь хвалебном по отношению к повествовательной прозе в духе «Гусмана де Альфараче» – Бальтасар Грасиан не решается упомянуть «Дон Кихота». Кеведо в шутку перелагает его смерть стихами и сразу же о нем забывает. Мне возразят, что оба примера отрицательные; Леопольдо Лугонес уже в наше время выносит недвусмысленный приговор: «Стиль – это слабое место Сервантеса, и ущерб, который нанесло его влияние, весьма серьезен. Бедность цветовой палитры, неустойчивая композиция, запутанные абзацы, которые, отдуваясь, завиваются в бесконечные спирали, где начало никак не может состыковаться с финалом; повторы, несоразмерность – вот наследие для тех, кто, видя наивысшее воплощение бессмертного произведения только в форме, продолжает грызть шероховатую скорлупу, скрывающую вкус и сочность плода» («Империя иезуитов», c. 59). Того же мнения и наш Груссак: «Если называть вещи своими именами, мы должны признать, что добрая половина романа написана чрезвычайно расхлябанно и небрежно, что с лихвой оправдывает обвинения в ущербности языка, которые предъявляли Сервантесу его противники. Я имею в виду не только и не столько речевые неловкости, невыносимые повторы, каламбуры, напыщенные и тяжеловесные риторические обороты, но скорее общую слабость этой послеобеденной прозы» («Литературная критика», c. 41). Послеобеденная проза, проза разговора, а не декламации – вот она,