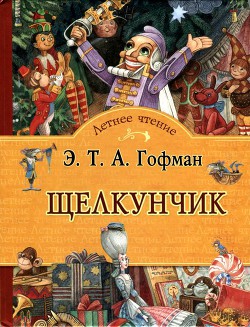молодого монаха, незнакомого мне. Не замечая меня, они с пением направлялись в открытые монастырские ворота. Подобным образом туда же вступили доминиканцы и францисканцы из Б., в монастырский двор въезжали закрытые кареты; это прибыли монахини из монастыря святой Клары, что в Б. Все говорило о том, что в монастыре готовится особо торжественная церемония. Церковные врата были широко распахнуты; я вошел и увидел необычайную чистоту и убранство.
Украшали гирляндами цветов главный алтарь и боковые приделы; некий пономарь громко говорил о том, что розы уже расцвели, а завтра они понадобятся спозаранку, ибо такова воля госпожи настоятельницы: главный алтарь надлежит непременно украсить розами.
Мне не терпелось присоединиться к братьям, и, подкрепив душу усиленной молитвой, я вошел в монастырь и спросил приора Леонардуса; сестра привратница проводила меня в зал, где Леонардус сидел в кресле, окруженный братьями; громко плача, с душевным сокрушением, неспособный выговорить ни слова, повергся я к ногам приора.
– Медардус! – воскликнул он, и братья негромко повторили в один голос: «Медардус… брат Медардус, наконец, опять среди нас!»
– Слава небесным силам, сохранившим тебя от уловок злокозненного мира; ну, рассказывай, рассказывай, брат наш! – перебивали монахи друг друга.
Приор встал с кресла, и, повинуясь его знаку, я последовал за ним в келью, которую он обычно занимал, посещая женский монастырь.
– Медардус! – начал он, – ты кощунственно преступил свой обет; вместо того чтобы выполнить наказы, сопутствовавшие тебе, ты обесчестил себя бегством, недостойнейшим образом обманув монастырь. Подобало бы подвергнуть тебя заточению, если бы я намеревался руководствоваться уставом по всей строгости.
– Судите меня, преподобный отец мой, – ответил я, – судите меня, как велит устав; ах, с радостью сброшу я бремя этой убогой, изнурительной жизни! Я и сам чувствую, что строжайшая епитимья, которой подверг я себя, не вернула мне упованья!
– Не падай духом, – продолжал Леонардус, – это говорил с тобой приор, теперь будет говорить друг и отец. Чудом избежал ты смерти, грозившей тебе в Риме… А вот Кирилл не избежал мученичества…
– Так вы знаете? – спросил я, полный изумления.
– Знаю, – ответил приор, – я знаю, как ты поддержал несчастного в последнюю минуту и как тебя хотели отравить вином, предложив его тебе для освежения. По-видимому, тебе удалось даже под наблюдением тех монастырских аргусов пролить это зелье; если бы ты проглотил хоть каплю, тебя бы не было в живых через десять минут.
– Посмотрите, – воскликнул я и, засучив рукав рясы, показал приору мою руку, высохшую до кости; при этом я рассказал, как, чуя опасность, вылил вино себе в рукав. Леонардуса передернуло при виде руки, которую могла бы протянуть ему мумия; что-то глухо отозвалось в нем:
– Вот оно, искупление всех твоих святотатственных посягательств; но Кирилл – о, ты праведный старец!
Я сказал, что тайная казнь бедного Кирилла до сих пор озадачивает меня, так как мне неизвестна ее причина.
– Вряд ли, – сказал приор, – ты сам избежал бы подобной судьбы, если бы ты, а не Кирилл, представлял в Риме интересы нашего монастыря. Ты знаешь, наш монастырь претендует на доходы, которые незаконно присваивает себе кардинал… вот что побудило кардинала нежданно-негаданно сблизиться с папским духовником; вот почему яростная вражда вдруг сменилась дружбой; так он привлек на свою сторону влиятельного доминиканца, противопоставив его могущество Кириллу. Лукавый монах быстро смекнул, как отделаться от Кирилла. Он сам представил Кирилла папе и так обрисовал приезжего капуцина, что папа восхитился его достоинствами и приблизил его к себе, включив Кирилла в свое окружение. От Кирилла, конечно, не ускользнуло, как наместник Божий привержен своей державе в этом мире с его соблазнами, как лицемерное исчадие играет его страстями и, вопреки могучему духу, вообще говоря, обитающему в нем, находит презренные средства подчинить его себе и раскачивать между небом и землею. Благочестивый Кирилл, как можно было предвидеть, возгорелся праведным гневом и почувствовал в себе призвание огненными речами по наитию духа потрясти папу и обесценить в его глазах земное. Изнеженное сердце оказалось действительно отзывчивым к речам благочестивого старца, но именно в своем умилении папа был уязвим и для происков доминиканца, исподволь искусно подготавливавшего удар, смертельный для бедного Кирилла. Он уверил папу, будто существует ни много ни мало, как тайный заговор и перед Церковью хотят его представить недостойным тройной короны; Кирилл будто бы склоняет его ко всенародному покаянию, а оно послужит поводом для кардиналов открыто восстать против папы, так как брожение среди них уже имеет место. И папа действительно почуял в душеспасительных речах Кирилла коварное поползновение; старец ему опротивел, и он не изгонял его из своего окружения лишь потому, что предпочитал пока не делать слишком демонстративного шага. Едва Кирилл опять нашел возможность говорить с папой без свидетелей, он сразу же сказал ему, что, не отрекаясь всецело от мирских вожделений и не достигая истинной святости в собственной жизни, недостойный наместник Божий наносит Церкви урон и она вынуждена избавиться от него как от позорного, гибельного довеска. Едва Кирилл покинул внутренние покои, оказалась отравленной вода со льдом, которой папа утолял обычно жажду. Я полагаю, нет нужды доказывать тебе, хорошо знавшему благочестивого старца, что Кирилл был в этом неповинен. Но папа не сомневался в его вине, отсюда приказ, повелевающий доминиканцам тайно казнить монаха-пришельца. Ты привлекал к себе в Риме общее внимание, и папа заподозрил в тебе родственную душу, внимая твоим речам и в особенности твоему жизнеописанию; он подумал, что вместе с тобою поднимется выше над жизнью, а греховное философствование о религии и добродетели придаст ему силы грешить вдохновенно, как я позволил бы себе выразиться. Твои упражнения в покаянии он рассматривал как искусную уловку лицемера, рвущегося наверх. Он был захвачен твоим успехом и с наслаждением купался в твоих красноречивых восхвалениях. Так и случилось, что ты обошел доминиканца и достиг высоты, более опасной для его камарильи, чем любые увещевания Кирилла. Ты видишь, Медардус, я знаю все, что ты делал в Риме, знаю каждое твое слово, произнесенное тобой в присутствии папы, и это перестанет тебя удивлять, если я скажу тебе: к его святейшеству чрезвычайно близок друг нашего монастыря, и он меня обо всем ставит в известность. Даже когда ты думал, что говоришь с папой наедине, он не пропустил ни одного твоего слова. Когда ты приступил к строжайшему покаянию в монастыре, чей приор – мой близкий родич, я не сомневался в твоем чистосердечье. Ты и был чистосердечен, однако в Риме на тебя снова напал злой дух греховного высокомерия, которому ты и у нас был подвержен.