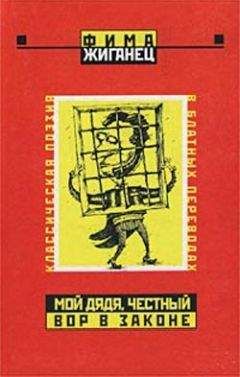Сверчок решительно сдвинул трусы в сторону урны.
– Гляди, мужики, как простой захар кузьмич[55] повторяет подвиг Сани Матросова, – с интересом прокомментировал поступок Вити Михалыч – семидесятилетний лагерник с одиннадцатью сроками за спиной, высохший и шершавый, как балан[56] на лесоповале. – Сверчило, ты хоть знаешь, чьи это трусы?
– Профессора нашего.
– Совсем с головой не дружишь? Прикинь: Профессор в них утонет на хрен! Это ж председатель СДП вывесил – чувырло лохматое[57]. Теперь он тебе точняк месяц БУРа сосватает.
– Ёпэрэсэтэ! – засуетился Сверчок и быстро потянул трусы в другую сторону.
Однако и здесь черная тряпица провисела недолго.
– Ну, вы гоните, – снисходительно заметил Костик Червонец, до сих пор со стороны слушавший обсуждение бельевого вопроса. – Станет вам председатель СДП этот бутор носить… У него импортные, такие, знаете, как плавки, – чтоб яйца при ходьбе не звенели. А эти, по-моему, я на «чертиле» видел, на Мишане.
Пиратские трусы тут же перекочевали к «мусорке».
– Это вы загрубили, – задумчиво прокомментировал один из стоявших поодаль наблюдателей. – Шароварчики кто-то из «бугров»[58] на просушку повесил.
Портки скользнули по канатной дороге в «авторитетную» сторону.
К Сверчку неслышно притерся новый персонаж – Алексей Грушко, прозванный Алешей Бесконвойным[59].
– Витек, братан, ты чего, офонарел?! – прошипел Алеша на ухо Сверчку. – Эти трусы позорные тут «обиженники»[60] вывесили! Спецом, падлы, чтобы кого-нибудь из порядочных арестантов офоршмачить[61]! Че ты их мацаешь?!
Витек охнул. И как он сам не догадался! Кто же еще, кроме этих животных, мог посреди локалки растянуть такую поганую рвань? И молчат же нарочно, твари ткнутые… Правильно говорят на зоне – «Нет наглее наглого педераста»! Сверчок отыскал глазами стоявшую у стены барака метлу – и стал подталкивать древком ненавистные трусы в сторону урны.
– Что такое? – раздался голос за спиной. – Видать, кто-то из «блатных» усрался, а Сверчок боится испачкаться. Трусишки, по-моему, Зурабовы.
Зураб считался одним из пацанов, приближенных к «смотрящему»[62] отряда. Тыкать палкой в его белье было верхом неприличия: в ответ могли ткнуть «перышком»[63] под ребра.
– Тьфу ты! – разозлился Сверчок и махнул рукой. – Пускай висят, где висели. С этими трусами накличешь на свою жопу приключений…
Так и получилось, что во время контрольной проверки перед нестройными рядами арестантского люда весело развевались на ветру безымянные трусы – как гордо реющее черное знамя, зовущее «сидельцев» к светлой жизни, исправлению, перевоспитанию и возвращению в ряды честных граждан.
Новичок вошёл в помещение отряда, как английский принц в дешевую ночлежку. Он огляделся, сокрушенно покачал головой и гордо проследовал к спальному месту, которое ему определил старший дневальный. Место его не удовлетворило.
– Милейший! – жестом подозвал он старшину. – Мне бы хотелось что-нибудь у окна.
– А тебе не хотелось бы что-нибудь у параши? – резко оборвал старшина – суровое существо из архангельских краев, тяжелый взгляд которого весил что-то около полутонны. – Еще раз услышу про «милейшего»[64] – и будешь кукарекать на насесте[65]!
«Принц» пожал плечами и гордо отвернулся, принявшись рыться в своем бауле. Сунув кое-что из нехитрого скарба в «гараж» – прикроватную тумбочку на двоих, он выудил со дна мешка школьную тетрадку, достал из нее какой-то листок и стал прилаживать к стене.
– Эй ты, клоун! – загрохотал тут же грозный голос дневального. – Тебе кто позволил на стену всякую хрень лепить?!
– Если мне не изменяет зрение, – с достоинством ответствовал незнакомец, – я вижу здесь немало фотографий и репродукций, висящих над кроватями.
– А ты меньше гляди! У нас слишком глазастым шнифты66 выдавливают! По правилам внутреннего распорядка вешать на стены всякую гадость запрещено.
– А почему же…
– А потому же! Короче: я здесь решаю, что можно вешать, что нельзя. Вот что ты удумал наклеить?
– Фотографию брата…
– Во-во – брата, свата! Ты бы еще сюда впер фотографию кума[67]! А ну, зарисуй… Че-то рожа знакомая; я с ним нигде на этапе[68] не встречался?
– Вряд ли. Скорее всего, вы знакомы заочно.
«Аристократ» протянул старшине пачку чая, и тот увидел на ней ту же лысоватую улыбчивую физиономию, что на предыдущем фото. Крупными буквами на пачке было пропечатано – «ДОВГАНЬ».
– Не понял юмора, – наморщил лоб старшина. – У тебя что, Довгань брательник?
– Естественно. Позвольте представиться – Борис Довгань.
В пуленепробиваемой черепушке старшего дневального что-то щелкнуло, вспыхнуло и задымилось. Он тут же вспомнил, что фамилия новичка (которую ему уже называл начальник отряда) – действительно Довгань. И пожалел, что пропустил это обстоятельство мимо ушей.
– А не заливаешь? – недоверчиво спросил он у «принца». – Мало ли на свете Довганей…
– Довгань – это не Петров, – резонно заметил новичок. – Так я могу повесить фотографию?
Вскоре фото известного российского предпринимателя висело над кроватью, стоявшей у окна…
Прибытие в отряд Бориса Довганя внесло в арестантскую жизнь свежую струю и растормошило серую массу «сидельцев».
– Звиздит он, как Троцкий! – хмуро отмахивались скептики. – Такие бобры[69] по этой жизни за колючку не залетают. Что ж, Довгань своего брата от срока не отмазал бы? Да это даже не фонарь[70] – это северное сияние!
– Не фиг, не фиг, – возражали остальные. – Они даже на рожу похожие. Что-то есть. И потом: бывают обстоятельства…
Последний аргумент оказался наиболее убедительным. Арестантский народ может не верить ни во что – ни в Бога, ни в черта. Но он твердо знает: «бывают обстоятельства»… За эту фразу осужденные держатся, как утопающий за соломинку. Она служит оправданием любых их собственных «косяков»[71], проявлений слабости, недостойных поступков. Сельский врач спас человеку жизнь – а тот стащил у него сапоги и ушанку. Мужик в пьяном угаре зарезал двоих собутыльников и поджег собственный дом. Молодой шпаненок влез в аптеку, обглотался «колес»[72], заторчал[73] и уснул, а утром его разбудили менты. Бывают обстоятельства… И тот, кто осмелится спорить с этим философским утверждением, рискует навлечь на себя гнев всего арестантского братства: нельзя покушаться на святое!
Но дело, конечно, не только в «обстоятельствах». Манера держаться, говорить, внешность Бори Довганя совершенно исключали возможность обмана. О своих отношениях с братом, о подробностях дела, которое довело его до лагерных нар и вообще о своей «вольной» жизни Боря рассказывал как бы неохотно, лишь тогда, когда к нему уж очень приставали назойливые «пассажиры». А приставали постоянно: не у всякого братан размножен и на водке, и на чае, и на чипсах! Но, как видно, даже миллионщик не всегда может родню отмазать…
– Не вправе я вам, уважаемые, рассказывать всех подробностей, – мягко растолковывал любопытным тюремный Довгань. – Знаете же, по какой статье сижу?
– «Маслокрадка»[74]! – радостным хором отвечали уважаемые.
– Не «малокрадка», а статья 160 – «Присвоение или растрата». Экономика, дорогие мои, это чрезвычайно тонкая материя. В условиях нашего дикого рынка просто невозможно хозяйствовать по-честному! Власть сама заставляет предпринимателя искать обходных путей. Сама толкает его на преступления.
Зэки согласно кивали головами. Ясен перец, виновато государство! Кто ж еще? Да взять хоть любого из них… А Боря развивал мысль:
– В общем, во время одной из крупных финансовых операций брат попал в сложную ситуацию: всплыли ненужные подробности, которые заинтересовали налоговую полицию. Речь шла о десятках миллионов долларов…
В кругу слушателей пронесся одобрительный гул. Зэк вообще любит рассказы о красивой жизни, виллах в Майами, длинноногих «шмарах»[75], рулетке в Монте-Карло… Брать – так миллион, иметь – так королеву!
– Скандал назревал огромный. Расследование находилось на контроле в Кремле. Я в это время возглавлял одну из фирм Владимира…
– Какого еще Владимира? – недоуменно перебил сморчок с синим эполетом на плече.
– Довганя, мудило! – зло рыкнул кто-то, и рассказ продолжался.
– Я сказал брату, что возьму всю вину на себя. Он – голова, ему продолжать семейный бизнес, а я уж как-нибудь пересижу. Долго мы обсуждали все «за» и «против», но в конце концов на том и порешили. Надо отдать должное: Владимир затратил немало средств, чтобы смягчить приговор. Но – три с половиной года мне все-таки отмерили… Впрочем, брат не оставляет меня в беде. В предыдущей колонии были у меня и импортные колбасы, и кофе, и шоколад, и осетрина – все не перечислишь!
– А за что тебя перевели?
– Когда со свободы приходят такие передачи, для одного человека этого слишком много. И большую часть я раздавал. Активистам это не нравилось. Стали требовать, чтобы излишки я отдавал в какой-то фонд, а они, дескать, будут распределять сами. Но с какой же стати кто-то будет распоряжаться моей собственностью? Я и без советчиков разберусь, кому помогать.