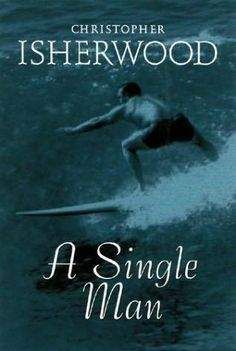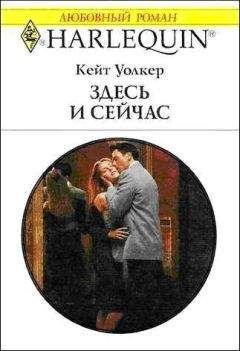Джордж смеется именно таким, в меру сардоническим смешком, какого от него Грант и ожидает. Но от этого юмора висельника больно сжимается сердце. Он знает, что страх уничтожения подобен удару ножа. Каждый военный конфликт — двадцатых, тридцатых, война сороковых — оставил в его душе свои шрамы. Теперь же мир стоит перед угрозой выживания. Выживания в Каменном веке, когда в порядке вещей, если мистер Странк пристрелит мистера Гранта с его женой и тремя детьми, поскольку тот не озаботился запастись достаточным количеством продуктов и теперь его голодное семейство представляет угрозу Странкам — а тут уж точно не до сантиментов.
— Здесь Синтия, — говорит Грант, когда они возвращаются в столовую, — не хотите присоединиться?
— Это необходимо?
— Полагаю, да, — нервно хохотнул Грант. — Она заметила нас.
И верно, Синтия Лич уже машет им рукой. Это привлекательная молодая женщина из богатой нью-йоркской семьи, воспитанница колледжа Сары Лоренс. Возможно, именно в пику семье она недавно вышла замуж за Лича, местного преподавателя истории. Но брак их кажется вполне удачным. Энди худощав и бледноват, но не слабак; его темные горящие страстью глаза и гибкая фигура намекают на немалую сексуальную активность. Брак выбил его из привычной среды, но похоже, что усилия соответствовать уровню Синтии его увлекают. Устраиваемые ими приемы всеми одобряются уже потому, что кормят-поят там на деньги Синтии превосходно, Энди же любили всегда. Да и Синтия не так плоха, может, слишком увлеклась ролью аристократки на дне канавы — даже оттуда поучая всех свысока.
— Энди не пришел, — говорит Синтия, — поболтайте со мной.
Они усаживаются, и она оборачивается к Гранту:
— Ваша жена никогда меня не простит.
— Неужели? — Грант принужденно смеется.
— Она вам ничего не сказала?
— Ни слова!
— В самом деле? — Синтия озадачена. Потом оживляется. — Нет, она наверняка рассердилась на меня! Я ей сказала, что детей здесь одевают просто чудовищно.
— Думаю, она того же мнения. Она всегда так говорит.
— Они лишены детства, — продолжает Синтия, пропустив его слова мимо ушей, — это же будущие потребители! Избалованная мелюзга с накрашенными губами! В прошлом месяце я была в Мехико. Вот где глоток свежего воздуха. О, вы не поверите! Такие естественные детишки. Никаких капризов, никакой фальши, просто цветочки!
— Вопрос лишь в том… — начинает Грант, пытаясь возразить, но как раз поэтому так мямлит, что его едва слышно.
Синтия и не слышит.
— Но стоило нам этим вечером пересечь границу! Невозможно забыть! Я сказала себе: или мы, или эти люди сошли с ума. Они постоянно куда-то мчатся, словно в старой немой кинохронике. А хозяйка ресторана? Раньше я не задумывалась, но воистину черный юмор так их звать. Это же надо так улыбаться! И огромные меню, где нет ничего съедобного. А слуга с кухни, настоящий манекен — поставит стакан воды, слова не вымолвив! Глазам своим не веришь! Да, а на ночь мы остановились в ужасном новомодном мотеле. Кажется, ровно за минуту до нашего приезда его привезли откуда-то, может прямо с фабрики. Никакой индивидуальности, такие можно ставить где угодно. Я хочу сказать, после чудесных старинных отелей Мехико, каждый из которых нечто особенное, эти совершенно…
Грант делает новую попытку поспорить. Но мямлит еще тише. Даже Джордж ничего не понимает. Он делает здоровенный глоток кофе: такой нокаут на пустой желудок сродни хорошей дозе кайфа.
— Право, Синтия, дорогая! — слышит он свое смелое вступление. — Откуда вы взяли такую чушь?
Изумленный Грант фыркает. Синтия озадачена, но скорее позитивно. Она любит хорошую драчку; это разбавляет ее агрессивность.
— Честно, вы в своем уме? — Джордж чувствует, что его понесло, как по ветру воздушный шарик. — Боже, вы словно затхлая французская мымра, впервые оказавшаяся в Нью-Йорке! Они всегда твердят то же самое! Ненастоящие! Американские мотели? Но в том их сущность, номер в американском мотеле не есть комната в настоящем мотеле, если вам угоден этот жаргон, это просто комната, и точка. Сущность Комнаты. Символ образа жизни Америки в трех измерениях. И что требуется этому образу жизни? Дом с определенными параметрами, определенными удобствами, из определенных материалов — не более того. Все прочее ваша забота. Но ты скажи такое европейцу! Тут же умрет от ужаса… Правда в том, что наш образ жизни слишком суров для них. Здесь материальные блага сведены к простейшим удобствам. Почему? Да это же естественный первый шаг. Пока материальное не обустроено как следует, мысль не свободна. Звучит тривиально, но простейший из американцев это подкоркой чувствует. Европейцы говорят о бездуховности, а то и незрелости, чтобы нам, противникам индивидуального, романтически неэффективного вещизма ради вещизма, было пообиднее. Им дорог мертвый культ кафедральных соборов, первых изданий, парижских моделей и винтажных вин. Им надо неустанно долбить нас клятой пропагандой культуры. Если это им удастся, нам конец. Вот чем надо заняться Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности… Европа ненавидит нас за то, что мы тут хорошо устроились, загородившись рекламными щитами, словно пещерные отшельники. Спим в условных кроватях, едим условную пищу, радуемся условным зрелищам — вот причина их отвращения и ненависти, потому что понять нас они не в состоянии. Поэтому они вопят: это же зомби! Но им придется смириться с тем, что Америка может так жить — это прогрессивная культура, она на пятьсот или тысячу лет впереди Европы — или любой другой страны на земле, если уж на то пошло. Мы истинно живущие духовными ценностями существа. И потому мы как дома даже в условных наших мотелях. Только европейцы в шоке перед символическим, потому что они рабы материального…
За пару секунд до конца своего необузданного словоизвержения Джордж, словно парящий на большой высоте циркач, замечает входящего в столовую Энди Лича. Как кстати, какое облегчение! Запас энергии Джорджа уже на пределе, он самому себе верит с трудом. С ловкостью воздушного асса, он с верхотуры опускается в нужную точку. И будто из учтивости неподражаемо ловко замолкает в тот самый миг, когда Энди приближается к их столу.
— Я что-то пропустил? — ухмыляясь, спрашивает Энди.
ВЫСТУПАЮЩЕМУ под куполом цирка не дано скрыться за покровом опускающегося театрального занавеса, спасающего магию волшебства. Балансируя высоко под сводами на своей трапеции, он сверкает в пульсирующем свете, как настоящая звезда. Но на земле, лишенный света софитов, буднично доступный взглядам — хотя все уже глазеют на клоунов — он торопливо уходит мимо рядов по проходу. Ему никто не хлопает. Почти никто не провожает взглядом.
Вслед за безвестностью Джорджа охватывает желанная усталость. Приток жизненной энергии тихо иссякает, и он покорно сникает. Своего рода отдых. Внезапно старение на великое множество лет. Возвращается на парковку уже другой человек; окаменевшие плечи, неловкие скованные движения рук-ног. Опустив голову, приоткрыв рот на отупевшем застылом лице с поникшими к земле щеками, старик шаркает подошвами, занудно мыча себе под нос и время от времени протяжно-громко пукая на ходу.
ГОСПИТАЛЬ стоит высоко на отдаленном холме посреди пологих лугов и зарослей цветущих кустарников; он хорошо виден с автострады. Даже намекая проезжающим — народ, здесь конец пути — здание производит приятное впечатление. Открытое ветрам, оно множеством своих окон глядит на океан; отсюда виден мыс Палос-Верде, и даже остров Санта-Каталина в ясную зимнюю погоду.
И медсестры в регистратуре приятные. Они не пристают с вопросами. Если знаешь номер палаты, можно даже не спрашивать разрешения; просто идешь, куда надо.
Джордж решает сам подняться в лифте. На втором этаже кабина останавливается, и цветной медбрат вкатывает кресло с согбенной пациенткой. Ей на операцию, говорит он Джорджу, нам придется спуститься на первый, где операционные. Джордж из почтения предлагает удалиться, но молодой медбрат (такие сексуально мускулистые руки) не считает это обязательным, так что он остается, украдкой, подобно равнодушному зрителю на чужих похоронах, поглядывая на пациентку. Вероятно, она в полном сознании, но заговорить с ней было бы кощунством; жертва мысленно уже на пути к закланию, понимая и принимая участь свою с полным смирением. Симпатичные седые ее локоны определенно недавно завивали.
Вот эти двери; мысленно говорит Джордж.
Придется ли мне войти туда?
Ах, как корежит бедное тело при одном виде, запахе, близости этого места! Слепо оно мечется, съеживаясь, пытаясь сбежать. Да как они смеют вносить его сюда — отупевшее от их лекарств, исколотое их иглами, разрезанное изящными их ножами — какое немыслимое оскорбление для плоти! Даже вылеченное и отпущенное на волю, тело никогда этого не забудет и не простит. Никогда не будет прежним. Его лишат веры в себя.