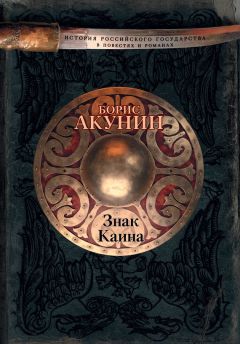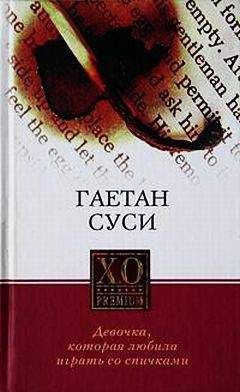Чтобы как-то унять обессиливавшее его волнение, он стал смотреть на рабочих, переместившихся в самую глубь строительной площадки. Наигранное оживление, с которым они поначалу участвовали в празднестве, понемногу сменилось неподдельной веселостью. То тут, то там слышались взрывы хохота, иногда, правда, показного, но даже такое проявление веселья свидетельствовало о том, что лед тронулся. Представители разных городов устроили дружеские состязания. Раздули угли и стали запекать на них молодых баранов.
Сколько из них раньше были пожарными, каменщиками, штукатурами, пекарями, стекольщиками, или даже юристами, скрипачами, страховыми агентами, или просто состоятельными молодыми людьми? На самом деле очень немногие начинали, как Леопольд, с профессии разрушителя. Каждому из них было хорошо знакомо чувство удовлетворения после хорошо сделанной работы, радость начала, развития и завершения процесса созидания в той области, где они были мастерами своего дела. Но раньше или позже все они не устояли перед неизъяснимой притягательностью разрушения. Это ощущение дано пережить лишь тому, кому довелось его испытать. Это лихорадочное, подспудное, бурлящее в крови, поистине дьявольское возбуждение. Все они знали ту темную, коварную, невыразимую часть самих себя, которой были обязаны глубоким, коварным, невыразимым удовольствием, получаемым от сноса трущоб, от крушения зданий. Оно раскрывало бездонную пропасть в самом сердце их существа, о которой понятия не имели те, кто никогда не держал в руках орудий разрушения (кроме разве что рабочих, забивавших скот на бойнях). Они тешили в себе это чувство, виновато из-за него напивались, потому что эта жестокая радость их одновременно еще и терзала, но устоять перед этим пьянящим соблазном они не могли никак. Радость разрушения обуревала их настолько сильно, что порой крушила самих разрушителей. Жертв нервных срывов отправляли в Клинику – истинное чистилище для людей их профессии.
«И мне ее не миновать», – думал Пески. Хоть он всем и говорил, что та темная страсть, та плотская радость, которую доставляло разрушение, к счастью, больше «не бурлит в его крови», нельзя было с уверенностью сказать, когда она снова охватит его и расправится с ним, как акула, которая без предупреждения всплывает из пучины на гладкую поверхность океана. Как случилось на прошлой неделе, когда на глазах у недавно лишившихся крова людей он головой вышиб входную дверь жилого дома (если б только он снова встретил ту женщину, что выскочила из парадного секунду спустя с детской коляской, Философ без колебаний предложил бы ей половину своей месячной зарплаты). Более того, совсем недавно он специально остался дома с женой Идой, чтобы присмотреть за внучкой – дочкой своей старшенькой, которая отправилась куда-то по своим делам. Он нежно склонился над колыбелькой, где малышка спала сном ангела. И вдруг его охватило безотчетное жуткое желание что-то сокрушить. Пальцы его уже сжали мертвой хваткой прутья колыбельки, и ему стоило неимоверных усилий сдержать мускулы, готовые переломать и искромсать дерево. Он поднял голову и окинул взглядом комнату маленькой девочки, мебель, будто из розовой карамели, фарфоровых балерин и музыкальную шкатулку, и все его нутро сковал невероятный панический страх, страх того, что его охватит непреодолимое желание крушить все вокруг. Он, конечно, не хотел этого, но что он сможет поделать, если это желание окажется сильнее его самого? Страх поддаться искушению, уступить соблазну, который может захлестнуть все его существо и сокрушить его волю, был сродни страданиям наркомана или алкоголика. Взяв ребенка на руки, он в ужасе от себя самого выскочил тогда из дому.
Откуда ни возьмись, перед ним возникла бледная тень, котору вполне можно было принять за приведение, потому что она скорее скользила, а не шла, причем появилась она перед ним внезапно, весь свой рост, так что у Философа кровь к голове прилила. Ксавье Мортанс показал на деревянный ящик, на котором сидел старик.
– Можно мне тут присесть? – спросил он и сел рядом.
Философ еще не оправился от испуга и ничего парнишке не ответил. Что касается подручного, он не осмеливался сразу же про должить разговор, прерванный несколько часов назад. Так он и сидели в молчании, наблюдая за царившим вокруг весельем. Теперь оно разгорелось в полную силу. Были организованы состязания (дружеские) между представителями разных городов, в которых принимало участие все больше людей, соревнования уже принимали чуть ли не официальный характер, ставки можно было делать любому желающему. Все громче пелись песни, в слова и мелодиях которых звучали радость и неодолимая убежденность. Главным аттракционом стала Охота на лося. Смысл его состоял в том, чтобы пробежать метров двадцать и столкнуться с соперником, причем сначала его надо было ударить головой. Удары должны были повторяться снова и снова, до тех пор, пока кто-то не будет сбит с ног (достаточно было коснуться земли коленом). Чемпионом в этой забаве стал свирепый индеец из Чикаго, по прозвищу Ужасный Гигант, быстрый на ноги, с бычьей шеей. Каждая его победа сопровождалась одобрительными возгласами. Пламя огромного костра играло на стенах стоявших вокруг развалин – призрачных, полуразрушенных, сводящих сума причудливых контурах руин. Под светлым от огней небом, выпуклым, как увеличительное стекло, продолжала готовиться баранина.
Ксавье так и подмывало задать вопрос, даже губы его горели от нетерпения, он искоса поглядывал на Философа, пытаясь улучить подходящий момент. В конце концов он спросил:
– Так все-таки, виделся он еще с ней потом?
– Кто виделся, с кем? – не понял старик, в реплике которого прозвучала нотка нетерпения, не оставшаяся незамеченной под ручным.
Но пареньку слишком хотелось знать, чем кончилось дело.
– Лазарь. Со своей матерью.
Леопольд тяжело вздохнул, не раскрывая рта: опять двадцать пять. Мортанс и впрямь помешался на этом. Но – спокойствие, только спокойствие; негоже в присутствии парнишки терять самообладание. Он стал почесывать мозоли на руке.
– Когда отец его помер – Лазарю тогда было лет двенадцать, – федеральная полиция отослала мальчишку домой в Нью-Йорк и снова передала на воспитание матери.
На этом Философ хотел закрыть тему, но Ксавье спросил:
– А что было потом? – И вдруг старику самому неожиданно стала интересна эта история; он напряг память и продолжил рассказ, глядя в одну точку, как будто говорил не только для паренька,
но и себе тоже.
– Мать его тем временем устроила свою жизнь. Она вышла замуж за одного странного малого, которого наполовину парализовало, когда он переболел полиомиелитом. (Философ знал это слово,
потому что один из его племянников скончался от этой болезни.) Этого беднягу, который понимал, что жить ему оставалось недолго, постоянно мучил вопрос о том, кто унаследует его дело; и Лазаря он воспринял как дар, ниспосланный ему свыше. Но если ты вспомнишь, что когда Лазарь еще лежал в колыбели, над ним склонилась фея разрушителей, тебе легко будет себе представить, с какой радостью он отнесся к ремеслу своего приемного отца. У того бедняги, надо тебе сказать, была часовая мастерская. Только подумай – ему надо было научиться обращаться со всеми этими крошечными зажимами, малюсенькими винтиками, часовыми механизмами и всем прочим. Лазарь чуть было не рехнулся. Он ведь думал только о том, как дома сносить. На самом деле даже тогда его распирало неуемное честолюбие, а это, я тебе скажу, может принести большой вред; ему, например, церкви хотелось разрушать. Мечта у него была такая – снести церковь, можешь себе представить? Я тебе не про динамит толкую, не про все эти треклятые изобретения, ты ведь сам днем видел, до чего они могут довести, правда? Я говорю о том, как мы сносили дома в добрые старые времена, когда разрушение было еще настоящей профессией. Так вот, сносить часовню или церковь обычным инструментом, которым мы работали, очень сложно и опасно из-за колокольни, потому что ты понятия не имеешь, в какой момент она может обрушиться. Я знал людей, которые при этом погибали! Но Лазарь в свои четырнадцать лет только об этом и думал. Он уже тогда был как моська, которая лает на слона. Хоть мать запирала его в подвале, в обитой войлоком тесной комнате, и держала его там связанным, парень был упрям как осел. Он отказался учиться на часовщика и поклялся, скрипя зубами, что станет разрушителем, и все тут. А часовщик из-за этого все хуже себя чувствовал, таял и сох, прямо на глазах превращаясь в полную развалину, и скоро умер. На следующий год и мать Лазаря скончалась от рака. Я был на той строительной площадке, куда он пришел, как только ему стукнуло семнадцать. Это было недалеко отсюда – на Двенадцатой авеню. Какой же там тогда шорох поднялся, когда его встречали, как вспомню – так вздрогну! Потому что он уже давно стал легендой у разрушителей. Ничего подобного я с тех пор не видел. Тогда говорили, что, когда мать его померла, он только плечами пожал. И все. Вот, пожалуй, и все, что я знаю. Воцарилось молчание. Потом Ксавье спросил: