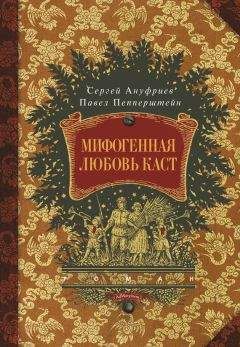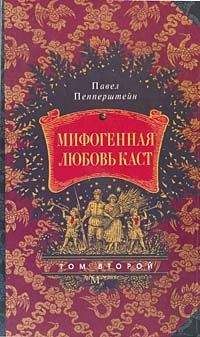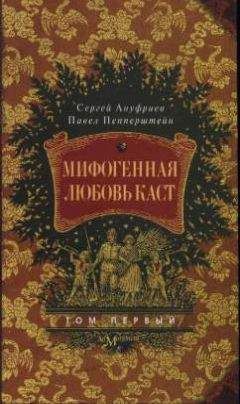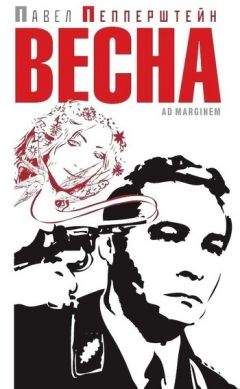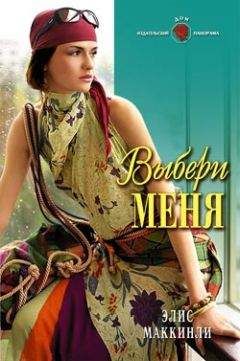– Слава тебе, Господи!..
И тут же со всех сторон, непонятно откуда, точнее, отовсюду, с неба, и из-под земли, и со всех сторон хлынул нарастающий, зубодробительный бас: «СЛАВА!»
И хор подхватил: «СЛАВА!»
Толпа закрестилась и волнами стала опадать на колени. И уже слышались рыдания и вскрики. Где-то очень высоко куранты Спасской башни пробили двенадцать раз, и с последним ударом яркий, нестерпимо праздничный салют осветил небо, отразившись миллиардами разноцветных отблесков в воздетых к небу лицах, в расширенных зрачках, в слезах, льющихся по щекам, в эмали зубов, блестящих внутри смеющихся ртов, в золоте медалей, в летящих волосах подбрасываемых вверх детей, в погонах, в женских заколках, в запрокинутых чистых лбах, в обнимающихся мужчинах и женщинах, взахлеб целующих лица друг друга.
Салют Победы! Как описать его? Можно увидеть и в жизни, и во сне, и в кино превосходные фейерверки, превращающие ночное небо в сцену, где выступают в своих силах, не за страх, а за совесть, огни и искры, и огненные шары, и лиловые тучи, и рассыпающиеся белоснежные букеты, и горящие стрелы, посланные в небо из невидимых луков, и фонтаны, сотканные из небесного серпантина, и серебряные ливни, и звезды, растущие из своего центра, и вращающиеся спирали, и красные розы, и гроздья сирени, и подобия комет, оставляющие в небе сладкие полузолотые следы, и дымы, летящие в разных направлениях, и остывающий синий очерк уже погасшего видения, и снова с царской щедростью швыряемые в небо сокровища, жизнь которых так коротка. Можно увидеть. Можно визжать, и прыгать, и вращаться вокруг своей оси, и падать на колени, и кидать в небо свое мороженое. Но Салют Победы увидеть нельзя. Позволено только пережить его. Можно только самому стать этим салютом – вздыматься над площадью, и рассыпаться, и вспыхивать, и гаснуть, и опадать в синих дымах, и снова с артиллерийскими залпами выходить в небо, и раскрываться в нем, как цветок, и расправлять с воздушным хлопком свои могущественные лепестки во все края небес, и взвиваться огненной ракетой, словно целясь в сердце небесного невидимки, того темного и пустого воздушного гиганта, который там бродит среди звезд. Позволено в ликовании разбрызгивать себя разноцветными огнями по лицам, по океанам из лиц. Поскольку что такое «ликование», как не иллюминация ликов, лиц и личинок?
Москва! Россия! Мы победили! Ты победила, господня пустота! Будьте же благословенны, орущие леса, и визжащие от счастья пни, и танцующий мох, и свистящие реки, и холодные и теплые моря! Слава вам, заброшенные танцплощадки! Слава парочкам, кружащимся в вальсе! Слава тем, кто умеет танцевать фокстрот! Мы победили сегодня! И это «сегодня» навеки останется сверкающей точкой в нашем совокупном сердце! Мы принесли вам счастье, побежденные! Вы узнаете теперь, что такое кружение, что означает «забыть себя», что значит слово «влюбленные»! Не меч принесли мы вам, но хуй. Наши танки входят в города, и девушки кидают танкистам цветы! Наши хохочущие регулировщицы, крепко схваченные портупеями, регулируют движение машин на разрушенных улицах Берлина! Женщины мира отвергли ваших ничего не понимающих эсэсовцев, вашу глупость, ваше детское отчаяние! Ваша трагедия не трогает нас, и мы утопили в своих сердцах ваших Малышей. Мы не варвары и не дети, мы умеем главное – забывать все. Стройные девушки в искрящихся трико разбегутся во все стороны, раскидают белые перья, выйдет в центр существо в белом костюме, со знаком водоросли на груди, и споет вам песню о любви.
Эй, любовь! Самурай! Истошный вопль! Капитан Немо! Улыбнитесь, капитан! Ты одинок. Но это в последний раз. Больше так не будет. Мы больше не будем. Мы понравимся вам.
Люди, качайте лейтенантов, подбрасывайте в воздух майоров и рядовых! Девушки, целуйте наших ученых и солдат, ебите слаще героев войны! Девочка двенадцати лет, сядь на колени композитору Шостаковичу, запуганному до смерти старику в круглых очках, нащупай своей ловкой рукой его хуй сквозь ткань брюк, нажми еще и еще раз. Пусть он кончит! Пусть он наконец отдохнет, расслабится. Пусть ему будет хорошо! Пускай пьют шампанское люди в широких пижамах и женщины в ночных рубашках, забившись веселыми группками в закутки санаторских парков! Мы подвели любовь под мир, как подводят под мост динамитные шашки. Мы партизаны, и если будет надо, мы рванем все к ебеням, потому что любовь равна смерти! А пока – радуйся, Великая Страна, купайся в фонтане своего подвига, забудь о лагерях, о развалинах, о скорбях и болезнях. Царь и Царица, поцелуйтесь на глазах у народа! Ничего, если вы стукнетесь коронами, как пасхальными яйцами, – это к счастью! Слава Воину-Победителю в войне! Вот он стоит на пороге Мавзолея, сочащийся маслом, пропитанный смолами, и Салют отражается в струйках елея, медленно бегущих по его лицу. Умащение миром тому, кто отвоевал мир!
Дунаев слышал величественные Славословия, которые пелись ему, – он как-то потерялся в этих потоках Славы, и казалось, что некому уже воспринимать это лучащееся всеми цветами радуги, источающее все ароматы Прославление. Случались с ним раньше припадки гордыни, когда он начинал кричать: «Я – гений!», и раздуваться. Но теперь, когда вся страна припадала к его ногам и все голоса вливались в единый гимн его подвигу, когда из каждой точки бытия забил вдруг сверкающий ключ славы и все превратилось просто в какой-то Петергоф, в сплошные бьющие друг сквозь друга фонтаны восхищения и признательности, теперь он как-то растерялся, забылся.
Даже Кремлевская стена за его спиной трепетала, как живая, и каждый зубчик пел ему славу. И были эти зубчики бритвенно острыми, и словно бы резали хрустящий воздух. В первом ряду толпы, он видел, стояла пожилая полная женщина в платке с бахромой, держащая на руках мальчика лет восьми. Его тонкие ножки в тусклых рейтузах надломлено свешивались с ее рук, светлокурая головка тоже свешивалась – он казался издали, в неровных отблесках салюта и отсветах прожекторных лучей, то ли больным, то ли мертвым. У Дунаева появилось ощущение, что эта женщина как-то рвется к нему, как к святому, надеясь, что он сможет то ли исцелить, то ли воскресить мальчика. Но гвардейцы в парадных мундирах теснили толпу, не позволяя никому приблизиться к Дунаеву. Парторг сделал еле заметное движение в ту сторону, бессознательно полагая, что теперь, будучи главным существом, он обладает и даром исцеления. Он хотел протянуть руку и возложить на голову ребенка, но женщина с мальчиком были далеко, на секунду они исчезли за спинами других людей, теснящихся, поющих и молящихся, затем снова появились. В этот момент особенно яркий шар огней взмыл в небо, и в зеленом свете Дунаев вздрогнул и отдернул протянутую руку. Он узнал Боковую. Только теперь она была нормальной женщиной, невысокой, болезненно-полной, видимой целиком, вместе со всеми своими волосами, заколотыми в пучок, – слабая, толстая, грушевидная женская фигура, одутловатое лицо. Это была она, но она уже не была Боковой – она стала Полной. Дунаева так испугало, что он видит ее и видит ее целиком, что он хотел повернуться и броситься назад, в Мавзолей, чтобы укрыться там, зарывшись в сладкие осколки своего леденцового гроба. Но тут Полная рванулась вперед особенно сильно, гвардейцы преградили ей дорогу своими сцепленными руками в белых перчатках, она неожиданно налегла всем толстым телом на эти сцепленные руки и бросила ребенка к ногам Дунаева. Мальчишеское тельце упало на гранит как-то гибко и упруго, как падает живая кошка или обезьяна, и тут же мальчуган заизвивался и стал цепко обнимать парторга за щиколотки. Он был весь влажный, словно бы только что родившийся прямо в одежде. Дунаев не успел отшатнуться, но тут сквозь народную толпу проступили советские солдаты в касках, в серых шинелях, и стали размашисто бросать к его ногам немецкие знамена и фашистские штандарты. Летели и падали шелковые полусвернутые флаги со свастиками, с черными крестами, падали тяжелые орлы на палках, сделанные на манер древнеримских, летели и падали значки дивизий и корпусов СС – связки молний, дубовые венки, стрелы, скрещенные мечи, черепа… Все это образовало пеструю груду, которая быстро росла, погребая под собой мальчишечье тельце. Мальчишка еще некоторое время копошился под этой грудой, на долю секунды мелькнуло его личико – личико мертвого Гитлера, – но тут же его накрыло знаменем. Только зеленоватая детская рука еще пыталась выползти, выпутаться из-под груды знамен. Дунаев с наслаждением наступил на нее ногой в скрипучем сапоге.
«Гитлер капут!» – подумал парторг.
Гму отчего-то вспомнился чей-то рассказ о том, как в женских тюрьмах уголовницы-лесбиянки выкалывают себе на груди татуировку Г. И. Т. Л. Е. Р., что якобы означает «Где Искать Тебя, Любимый, Если Разлучат?»
– Где искать тебя, любимый, – криво усмехнулся Владимир Петрович, глядя на груду знамен, – если разлучат?
Тут же Дунаев превратился в высокий заостренный столб огня, в огненный язык, вздымающийся из центра огромной каменной звезды, распластавшейся на мраморе. Он вдруг оказался не у Мавзолея, а с другой стороны Кремля, у стены, выходящей в Александровский сад. Он стал огнем. Он горел и извивался, как рыжий вымпел над звездой. Никогда прежде он не бывал огнем. Оказалось, это приятно. Огню хорошо, он бесконечно увлечен своим собственным ростом, своей игрой с воздухом, он искренне считает себя царем, и внутреннее состояние у него простое и бодрое – так выяснил Дунаев. Странная музыка звучала вокруг него. Прежде не слышал он такой музыки – резкой, громкой, похожей на быстрый скрежет с криками, ударами и стрекотом. Справа и слева от него изгибались и носились колоссальные парни с чудовищными железными гитарами, извергающими этот скрежет.