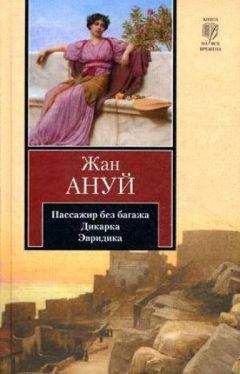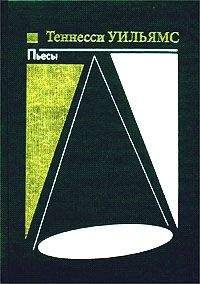Ныряем в длинный магазин с высокими потолками. Пол – голый бетон, глазурованный смолой цвета меда, демонстрационные вешалки – ржавые железные перекладины, зеркала – длинные листы отполированной жести с пугающе острыми неровными краями. Продавщицам требуется целая вечность на то, чтобы доковылять до нас из глубины магазина – в этаких-то сандалиях с черными деревянными подошвами толщиной в фут. Впрочем, они и босиком проворнее не стали бы, так туго затянуты они в свои платья из ткани ламе медного цвета. На фоне подсветки – подсветкой работают хромированные автомобильные фары и сварочные горелки, что пылают в высоких нишах – неуклюже ступающие продавщицы напоминают вызолоченные этюды Джакометти*.
Но вот они доковыляли – все наперебой кланяются, трепыхаются, скрежещут ресницами, словом, на Гермико не надышатся: она здесь, по всей видимости, завсегдатай. Гермико указывает на меня и велит им разобрать парусиновые цирковые шатры на одежду канадской великанше.
* Джакометти Альберто (1901-1966) – швейцарский скульптор и живописец. В 1925-1935 гг. создал несколько значительных произведений, которые назвал «скульптурами в клетке» (в них многочисленные части были заключены в каркасную раму или подобие клетки). После 1935 г. Джакометти создавал почти исключительно этюды отдельно стоящих человеческих фигур, скульптурные группы или портретные бюсты.
Девушки неверной походкой бредут на склады, спрятанные за рядами отключенных батарей парового отопления, и возвращаются несколько веков спустя с одним-един-ственным платьем, что свисает с их обесцвеченных рук, поблескивая, точно нефтяное пятно.
Меня вталкивают в просторную дымовую трубу из рифленого металла, что служит здесь примерочной. Даже в жестяном зеркале вижу, что платье – просто отпад. Скроенное по косой, с одного плеча приспущено, на другом едва держится, смахивает на кусок серой автопокрышки, но стоит мне пошевелиться – и ткань мерцает и переливается. При этом само мое тело остается неизменным, той же блеклой текстуры, как утренняя каша-размазня.
Выхожу в демонстрационный зал, все восклицают: «Ах-х!» Девушки, цокая сандалиями, устремляются ко мне, удлиненные киотские лица озаряются радостью.
– Дженки-дженки, – щебечут они, или что-то в этом роде. – Дженки-дженки.
– Что они говорят? – спрашиваю шепотом у Гермико.
– Тебе идет.
Искоса гляжу на свое отражение в длинной полоске измятой жести.
– Им платят, чтобы они так говорили.
– Луиза, это платье идеально тебе подходит. Только женщина настолько… величественная, как ты, может позволить себе его надеть.
Девушки-Джакометти выжидательно смотрят. Выдаю самую свою осмысленную фразу по-японски:
– Икура десу ка?*
Одна из девушек качнулась вперед и подносит к моим глазам калькулятор из оцинкованной стали: на светодиодном индикаторе высвечивается цифра с астрономическим количеством нулей.
* Сколько это стоит? (яп.)
Гермико улыбается, кивает от моего лица, девуш-ки-Джакометти бурно аплодируют. Вот уж неудивительно – за такие-то деньги, мать их за ногу.
Выходим на тротуар. Я прижимаю к себе здоровущий пакет не иначе как из пожелтевшего рыбьего клея. Проходим несколько шагов.
– Дай-ка руку, – говорит Гермико. И перекладывает мне в ладонь отрез серебристой кольчуги.
– Это что такое?
– Ожерелье, глупышка. К такому платью полагается завершающий штрих.
– Но где ты его раздобыла? Гермико широко усмехается.
– Слямзила, пока продавщицы отвернулись. Уж эта мне Гермико.
Заворачиваем за угол выпить чаю в тесной многоуровневой кафешке, где повсюду кованое железо филигранной работы и зеркала с золотыми прожилками.
– Хочешь попробовать мороженое-сандэй «зеленый чай»? – спрашивает Гермико. – Мое любимое.
– С удовольствием.
Официантка в мандариновом форменном платьице горничной из фарса времен belle epoque* кланяется и убегает. Гермико заглядывает мне в глаза.
– Ты счастлива?
– Есть хочется. После похода по магазинам я всегда голодная как волк, но, в конце концов, лопаю-то я за двоих.
– Ты не?.. – пугается она. Я смеюсь.
– Я имею в виду, за двоих японцев. Я не беременна и никогда не буду.
Гермико накрывает мне руку своей рукой.
– Нет?
* La Belle Epoque (фр.) – начало XX в.
– Когда я в последний раз сделала аборт, я велела им заодно вытащить и все причиндалы тоже.
– И для тебя это… – она умолкает, закусывает нижнюю губу, – не явилось тяжелым душевным потрясением?
– Я уже давно собиралась это сделать. Mes regie? всегда причиняли мне адскую боль…
– Твои – что?
– Mes regies. Французский эвфемизм для «месячных» – так было принято говорить в моей семье, чтобы никто случаем в обморок не грохнулся при мысли о вагинальном кровотечении. Хотя «месячные» – тоже эвфемизм, верно? Как бы то ни было, мне всегда казалось, что от матки проблем куда больше, нежели пользы. Так что я велела все на фиг вычистить.
В глазах Гермико – готовое излиться на меня сочувствие.
– И тебя не огорчает, что не будет детей?
– Вообще-то нет. Поглаживает пальцами мою руку.
– Ты всегда сможешь воспитать приемных.
– Еще до того, как у меня начались менструации, я твердо решила: никаких детей.
– В самом деле?
– Единственная услуга, которую я могу оказать человечеству, – это позаботиться о том, чтобы на мне мой род прекратился.
Французская горничная приносит наши сандэй; впрочем, на сандэй они похожи только в том, что и впрямь содержат шарики ароматизированного зеленым чаем мороженого на подставке из прозрачных коричневых кубиков. Кубики утопают в густом пузырчатом соусе: с виду похож на рыбью молоку, только темнее. Все месиво щедро посыпано мелкими белыми зефиринками и химически-яркими вишнями. Крохотной «крестильной» ложечкой осторожно зачерпываю – еще раз и еще. Гермико выжидательно смотрит.
* месячные (фр.).
– Правда, нечто?
Кажется, никогда прежде не пробовала несладких зефиринок. Ни дать ни взять волокнистые шляпки грибов, сплошная текстура, никакого вкуса. Коричневые кубики – желатин, ароматизированный кофе, а рыбные молоки оказались пудингом из хурмы, чуть пожиже, нежели готовила моя мать, однако с тем же пряным, мрачноватым, грязноватым вкусом. Во рту у меня воздвигаются предгорья Альберты. Вот уж не думала, не гадала ощутить этот привкус снова, тем паче в сочетании с мороженым «зеленый чай».
– Нравится? – тыкает меня в бок Гермико.
– Оно, хм… изумительное. Гермико хохочет.
– Луиза, что ты за «молоток»! Я ведь нарочно выбрала самый что ни на есть препакостный десерт, хотела полюбоваться на твою реакцию.
Снова берусь за ложку.
– Но мне нравится, в самом деле нравится.
– Можно дойти до «Баскин-Роббинс» и заказать настоящий сандэй.
Пытаюсь объяснить про пудинг из хурмы, хотя ясно вижу: мысли Гермико переключились на другое. Уж больно она переменчивая, эта Гермико. Живая, как шарик ртути – по-латыни меркурий…
Она встает – с соседних столов слетают салфетки.
– Ну ладно, пошли-ка.
– Ты уже назад собралась, на гору Курама? – Вот забавно: когда я там, я не хочу никуда уходить – просто забываешь, что остальной мир существует. Теперь же, когда мы в городе, ужасно жаль возвращаться обратно так рано.
– Нет, не на гору, – говорит Гермико. – Мы отправляемся в Осаку.
Небось пешком идти захочет.
– А это не слишком далеко?
– Сорок минут на синкансеие*.
– О.
На вокзале мы направляемся в дамскую комнату, где я переодеваюсь в новое платье, застегиваю ожерелье, а повседневную одежду заталкиваю в желтый пакет. Чувствую себя слишком разодетой и при этом не вполне одетой для сверхскоростного пассажирского экспресса, однако когда мы заходим в гиперсалон зеленого вагона (вагон первого класса), нас окружают личности всех полов, разряженные для вечера в городе. Гермико снимает свою короткую серебристую накидку и завязывает ее вокруг талии этакой широкой оборкой. У нее прелестные плечи – милее в жизни своей не видела, худенькие, мускулистые. Вскоре она уже разговорила парнишку в куртке из змеиной кожи. Плавный ритм их японской речи убаюкивает меня как колыбельная.
Город Осака больше похож на Токио, чем на Киото. Мы часами едем на такси вдоль бульваров, слишком широких и элегантных для проплывающих мимо скоплений высотных офисных башен и зданий-«коробок», возведенных на скорую руку и загроможденных ресторанами и бутиками. Гермико указывает на освещенный замок вдалеке на холме и говорит: «Хидеёси», однако не успеваю я разглядеть его как следует, как он уже исчез.
Тормозим перед стеклянным зданием в форме положенного на бок яйца. Тысячи детишек мечутся туда-сюда по широкой площади; мужчины без пиджаков, но в черных галстуках разглагольствуют перед ними в мегафон.
– Гермико, что это еще такое?
Она бежит через площадь, обгоняя меня, нетерпеливо бросив через плечо: