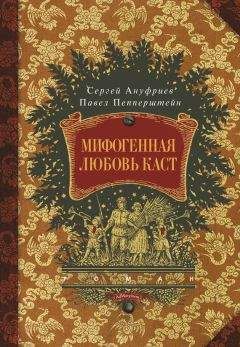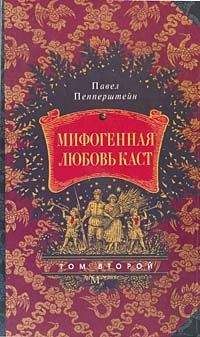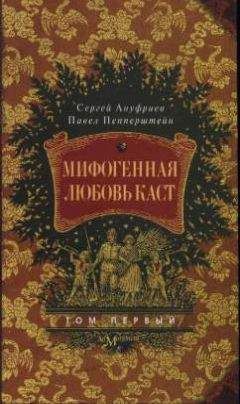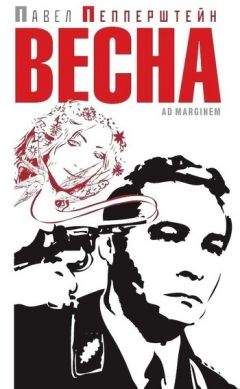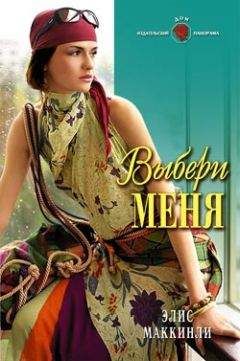Все это было прикрыто, заслонено более крупными образами, как если бы притаившихся магов заслонили крупные магические подмастерья. Большой плакат группы Depeshe Mode, с которого сурово-нежные, мечтательные парни смотрели прямо перед собой, и словно бы звучали их голоса, обращаясь к девочке, которая повесила их на стену:
Sweet Little fifteen
Do what you want
Tonight…
Дэйвид Боуи, худой, неровнозубый, с разноцветными глазами, изможденный внутренним драйвом, присутствовал в трех ипостасях: на сцене, изгибающийся в экстазе, с серебряным микрофоном в руках, затем в виде кадра из фильма «Инопланетянин» (это был один из любимых фильмов Настеньки, которая, впрочем, тогда еще называлась Наденькой). Дэйвид Боуи сыграл в этом фильме роль инопланетянина, который высадился на Землю, чтобы сообщить людям важные сведения о Вселенной, но он все время недомогает на Земле, все время его терзает дурнота, и таким – недомогающим инопланетянином в земном черном пальто он застыл на плакате. Третий плакат изображал Боуи в образе вампира из фильма «Голод» – в этом триллере Боуи сыграл вампира, который прожил несколько столетий в виде изящного денди, но вдруг за один день он катастрофически стареет и превращается в мелового старца. Катрин Денёв берет его на руки и несет сквозь анфиладу чердачных комнат, где трепещут голубиные стаи. Она кладет его там, на этом огромном чердаке, в гроб, все еще странно живого сквозь известь баснословной старости, целует на прощанье в большой и бутафорский лоб. Этот момент – женщина со стариком на руках – и присутствовал на плакате в комнате Наденьки Луговской.
Ну и, конечно, здесь был великолепный Джим Морисон, голый по пояс, с сонным укоризненным взглядом, с руками, глубоко засунутыми в кожаные штаны. Он как бы обрушивал на зрителя гордое томление бесконечных мастурбаций.
– Love me twice today! – просили девочку, живущую здесь, его приоткрытые губы.
– I am going slightly mad! – твердил за ним Фредди Меркьюри, одетый во фрак и бегущий вслед за пингвином.
С этим Дунаев мог только согласиться: он тоже постепенно сходил с ума. Из-за шкафа строго блестели восточные глаза Виктора Цоя: «Где же ты теперь, воля вольная?»
Да, воля была далеко.
Лапландская девушка Бьорк бежала по темному лесу, преследуемая мрачным плюшевым мишуткой. Субтильная Кейт Мосс в черной полурастерзанной майке стояла на подиуме, тоже, как Джим Морисон, засунув руки в черные джинсы от Калвина Клайна и как бы рассеянно мастурбируя, отвечая Джиму на его сонный вызов.
Все здесь было пропитано любовью, и кричало и мурлыкало о любви, и в то же время оставалось невинным, детским.
«Как же я мог жить так долго без… без любви?» – неожиданно подумал Дунаев.
Солнце клонилось к западу, свет становился все сильнее, золотистее, он проникал сквозь ледяные узоры окна, и комната превращалась в алмаз – в алмаз, в котором застрял Дунаев, в драгоценный кристалл, сверкающий всеми своими гранями, пронизанный Синими Тенями, искрами, вспышками. Свежесть зимнего леса за окном, потаенные скрипы деревянного дома, теплое дыхание ее разбросанной, словно в гневе, постели…
Он вспомнил вдруг все детские комнаты, которые прошел за войну: от той, полувзорванной, где он прятался в Подмосковье, до комнаты близнецов в берлинской квартире. И он вспомнил ту круглую детскую – спаленку, уютно освещенную ночником, – которая скрывалась в его собственной голове.
Он любил эту девочку не потому, что она была его внучкой, продолжением его рода – это его не волновало: «кровинушка», «продолжение рода» и прочая дребедень. Он любил ее потому, что, прежде чем родится в мир, она была его Советочкой, которая спала в его голове. Спала и сквозь сон лепетала. Он проснулся после войны, и кровь текла ему на лицо с темени: это ушла из головы Снегурка. Ее вынули бережно и нежно (наверное, Священство), поскольку война закончилась и Родина была спасена. И голова осталась жить как пустая скорлупа. Но ему предсказывали (он вспомнил), что она вернется – вернется реальной девочкой, внучкой. Она ушла, и вместе с ней ушла и его магическая сила. Теперь она снова появилась с новым именем – Надежда. И у него появилась надежда вернуть все. Возможно, она возвращалась, потому что Родина снова в опасности и ее снова нужно спасти и уберечь. Он не знал, что от них потребуется, когда она объединятся с Внучкой в магическом союзе – восстановить великий распавшийся Советский Союз? Или, наоборот, помочь Новой России проложить себе свободную и счастливую дорогу в будущее сквозь злые наслоения прошлого? Он не думал об этом, зная, что Советочка близко и скоро он услышит Совет (потому что Любовь – это Подсказа).
Последний луч солнца сверкнул в стеклах книжных шкафов, в елочных шарах, в глазах игрушек и погас. Комната вдруг погрузилась в глубокую синюю тьму. Дунаев осторожно вышел из дома. Никто никогда не догадается, что он побывал здесь.
Он хотел на следующий день снова приехать сюда, в этот подмосковный поселок, встретить Надю, когда она будет возвращаться из школы, и поговорить с ней. Но получилось иначе. Вернувшись в Москву, он сразу же узнал, что пока он следил за домом внучки, в криминальном мире (к которому он все-таки принадлежал) стало происходить нечто из ряда вон выходящее. Конец СССР и смена общей власти отразились в этом мире, как в зеркале: стали вдруг убивать блатных «авторитетов». Молодые шакалята, презирающие блатной закон, начали систематическое истребление старых волков, а заодно отчасти и друг друга. Война велась открыто, с чудовищной жестокостью и без всяких правил. Дунаев к «авторитетам» не принадлежал, но слыл «чем-то вроде того». Он понял, что надо ему срочно скрываться.
Относительно тех двоих, с которыми он встречался в ресторане «Пекин», он ошибся. Одного из них, правда, уже убили, но другой – молодой уголовник по кличке Сева Панцирь – остался жив и активно участвовал в разразившейся войне. И он, и другие многие должны были убить Дунаева просто так, из аккуратности, раз уж пошли такие дела.
Дунаеву пришлось срочно уехать из Москвы, долго заметать следы, навсегда расстаться с паспортом на имя Никиты Незнаева и мыкаться опять в местах, которые он знал и которым доверял – на дальнем Севере. Прятаться и заметать следы он умел, как никто другой. В этом деле был виртуозом.
Он жил скромно, работал библиотекарем, но постоянно думал о внучке. Тогда-то он и стал посылать ей «письма волшебника» – опять со всей прежней осторожностью, с оказиями. Когда-то он боялся НКВД, теперь – преступных группировок. Впрочем, в душе страха не было, просто он тщательно соблюдал осторожность, конспирацию. Целый год он посылал ей письма, которые так мучили Вострякова. Иногда Дунаев думал о Вострякове, опасался, как бы тот не отнес письма в милицию. Иногда ему казалось, что магические способности постепенно возвращаются к нему, и он пытался издали, на расстоянии, сковать волю этого человека. Кое-какие доверенные Дунаеву люди осторожно следили за коттеджем, за девочкой, охраняя ее на всякий случай. Но ей никто не угрожал. Эти же люди сообщили Дунаеву, что девочка поменяла имя и теперь называется Анастасией. Это было только на руку.
За год буря в криминальном мире подулеглась, убили всех, кого хотели убить, а потом и всех, кто организовал и осуществил эти убийства. Убили и Севу Панциря, и других, кто мог иметь претензии к Сторожу. Про Дунаева теперь некому стало помнить. Снова его никто не знал. Дела его остановились, он потерял все свои связи и почти все деньги. Это совершенно не волновало его. Он спал по ночам спокойно, как бревно в бобровой запруде.
В мае 1993 года он вышел из укрытия и снова приехал в Подмосковье, чтобы найти Настю и обучить ее волшебству. Он писал ей «письма волшебника» совсем с другим чувством, чем когда-то писал их для своей дочери: тогда он сам не верил в то, что пишет, а теперь верил, что и в самом деле сможет научить свою внучку летать, проходить сквозь стены и оставаться вечно молодой. Впрочем, на данный момент сам он мог похвалиться разве что загадочно приостановившимся процессом старения.
Так случилось, что он прибыл в «научную деревню» при Лесной лаборатории в тот самый день, когда Востряков сжег его письма Настеньке, и в тот же день она познакомилась с Тарковским. Дунаев впервые увидел ее лицо в окулярах бинокля: она сидела в овражке, за пикником, вместе с подружкой и молодым человеком. Сторож прятался в зарослях, на склоне, довольно далеко от них. Он не мог слышать, о чем они говорят, и наблюдал их общение как немое кино. Он видел, как она намазывает творог на хлеб, как откидывает назад пряди длинных волос, заметил, конечно, камешек с дыркой у нее на запястье (этот шаманский атрибут – «куриный бог» – был ему хорошо знаком), видел, как склоняются их затылки над едой, как светлый пар окружает витую струйку чая, ниспадающего из термоса в железную сверкающую крышку-стаканчик.