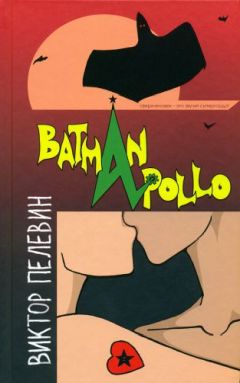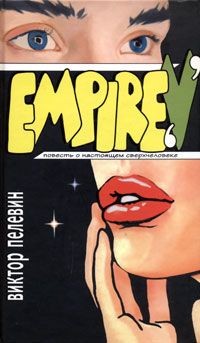Ознакомительная версия.
Это был роденовский мыслитель, отлитый в одном масштабе с метателем булыжника. Вокруг него располагалось такое же кольцо бронзовых наблюдателей — только в руках у них были не камеры, а джойстики от «Xbox» и «Playstation», провода от которых тянулись к его ушам, глазам, ноздрям, рту и даже паху.
Камень, на котором сидел мыслитель, походил на увеличенный булыжник пролетария — и тоже был украшен мелкой надписью:
Понимание происходящего вовсе
не означает, что у него есть смысл.
С этим тоже трудно было поспорить.
Скульптуры радовали глаз своей симметрией. Было в этом что-то надежное. Чем дольше я вглядывался в них, тем больше интересных деталей замечал. Из-за того, что метатель и мыслитель были в точности одного размера, начинало казаться, что это один и тот же человек в разных позах. Или даже в разных фазах одного движения — словно бронзовый пролетарий начал было революционный подъем, но что-то вдруг заставило его присесть и задуматься… И было понятно, в принципе, что именно: пролетарий был в штанах и ботинках, а мыслитель уже без.
Еще я заметил еле видные контуры двух огромных люков в потолке — наверно, чтобы при необходимости скульптуры можно было быстро сменить с помощью подъемного крана. В новом зале все было просчитано до мелочей.
— Ну как? — спросил Энлиль Маратович.
— Ничего, — сказал я. — Адекватно. Но как-то уж слишком по-человечески.
Энлиль Маратович засмеялся.
— Мы тоже в чем-то люди, Рама. И даже очень. Но мне интереснее, — он заговорил громким басом, — что скажут наши маленькие друзья, которые здесь впервые…
Обернувшись, я увидел, что депутация халдеев уже здесь. Они шли гуськом — как и требовал обычай. Кажется, так было заведено с древности, чтобы людям было труднее напасть на вампира. Они, конечно, не собирались нападать — но я вообще не заметил их приближения, что не делало мне чести. Пространство, которое халдеям следовало пересечь по пути к нам, было весьма обширным — и они напомнили мне ряженых, перебирающихся через замерзшую реку.
Я был знаком со всеми приглашенными — и опознал каждого, хоть они и закрывали лица золотыми масками.
Впереди семенил крошечный худой халдей в расшитой васильками хламиде. Это был начальник дискурса профессор Калдавашкин. Он любил кутаться в простенький ситчик в цветочках. Говорили, что он перенял эту манеру у позднесоветского халдея Суслова, ставшего вампиром после сорока лет — что обычно не практикуется. Видимо, Калдавашкин деликатно намекал на награду, которой ожидал за свой ежедневный труд.
Вторым шел халдей в зеленом шелковом халате и ритуальной юбке из крашеной овчины — тоже зеленой, но чуть другого оттенка, из-за чего возникал еле заметный, тонкий и чрезвычайно изысканный из-за своей простоты контраст, который в первый момент казался нестыковкой — и только потом согревал эстетический нерв. В его волосах было как бы несколько горностаевых коков — выбеленных прядей, кончающихся черной точкой, а на лице сверкала новенькая золотая маска Гая Фокса, мегапопулярная среди молодящихся халдеев. Так мог выглядеть только начальник гламура Щепкин-Куперник.
Третьим шел здоровый рыжебородый детина в чем-то вроде грязной ночной рубашки. Его маску покрывали тусклые пятна — видно было, что он никогда ее не чистит. Такое небрежение выглядело бы прямым хамством, если бы не профессия третьего халдея. Это был начальник провокаций Самарцев — и он, конечно, провоцировал нас своим внешним видом. В отличие от первых двух халдеев его трудно было назвать «маленьким другом» из-за габаритов. Но я допускал, что Энлиль Маратович провоцирует его в ответ, намекая, что он нам вовсе и не друг.
— Снимайте маски, — сказал Энлиль Маратович, — я хочу глаза видеть. Что думаете? Щепкин, что шепчет гламурное сердце?
— Гламурное сердце шепчет о вечности, — певуче отозвался Щепкин-Куперник, оглядывая статуи. — О ее скрытых хозяевах, которым мы имеем счастье служить, и о мелкой человеческой суете, не помнящей своего начала и не ведающей конца…
Энлиль Маратович скривился — нельзя было сказать, что недовольно, но и не особо одобрительно.
— Самарцев?
— Все верно, — пробасил Самарцев. — Булыжник — оружие пролетариата, а видеоряд — оружие финансовой буржуазии. Вот только насчет джойстиков не до конца ясно. Будем думать.
— Ваше слово, товарищ дискурс, — сказал Энлиль Маратович, поворачиваясь к Калдавашкину.
Я давно заметил, что при общении с халдеями у него прорезаются ухватки не то полуграмотного секретаря обкома, не то высокопоставленного бандита. Видимо, это был оптимальный модус поведения, которого следовало держаться и мне самому. Но это было непросто.
Калдавашкин приблизился к статуям и деликатно коснулся затылка одного из бронзовых журналистов.
— Я тут перечитывал комментарии к «Воспоминаниям и Размышлениям» нашего всего, — сказал он. — Там разбиралась одна интересная, но спорная мысль. Если мы взглянем на текущую перед нами реку жизни, мы увидим людей, занятых тем, что они принимают за свои дела. Но если мы проследим, куда река жизни сносит этих людей и что с ними происходит потом, мы в какой-то момент увидим совсем других людей, занятых совсем другими делами — которые вытекли из прежних людей и дел, но уже не имеют с ними ничего общего. То же самое случится с новыми людьми и их делами. Так происходит от века. В каждую секунду у происходящего вроде бы есть ясный смысл. Но чем больший временной промежуток мы возьмем, тем труднее сказать, что в это время происходило и с кем… Однозначно можно утверждать только одно — выделилось большое количество агрегата «М5», чтобы превратиться… Впрочем, здесь скромность велит мне умолкнуть.
— Это хорошо, — сказал Энлиль Маратович. — И что дальше?
— Река жизни, — продолжал Калдавашкин, — все время пытается избавиться от самой себя, но не может. Мир меняется потому, что убегает от своей жуткой сути — и контрабандно проносит себя же в будущее. Река не может вытечь из себя насовсем. Она может только без конца меняться. Но хоть и говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, ее суть остается той же самой — как первая скульптура неотличима от второй. И всегда сохраняется полный энтузиазма напор, задорное давление живой жизни, которое крутит турбины тайной электростанции. Пусть говорят, что это уже другая река — для тех, кто в теме, она все та же. А на крутом ее берегу стоит этот черный трон — величественный и прекрасный. Единственная неизменность в изменчивом человеческом мире.
— Нормально, — кивнул Энлиль Маратович. — Молодец. Чувствуется, что начальник дискурса — я вообще ни хера не понял. А про реку жизни можно объяснить проще.
Калдавашкин склонился в полупоклоне, изображая почтительное внимание.
— Типа анекдот, — сказал Энлиль Маратович. — Умирает старый раввин. Вокруг собралась паства и просит: ребе, скажите мудрость на прощание. Раввин вздыхает и говорит: «Жизнь — это река». Все начинают повторять «жизнь — это река…» Потом какой-то маленький мальчик спрашивает: «А почему?» Раввин еще раз вздыхает и говорит: «Ну, не река…»
Халдеи вежливо засмеялись.
Этот анекдот я слышал раз двадцать. Кажется, Энлиль Маратович рассказывал его халдеям при каждой официальной встрече. На каждом капустнике — совершенно точно.
— Запомни, Калдавашкин, — сказал Энлиль Маратович, — дискурс должен быть максимально простым. Потому что люди вокруг все глупее. А вот гламур должен становиться все сложнее, потому что чем люди глупей, тем они делаются капризней и требовательней…
Он повернулся к халдеям спиной, поднялся к черному базальтовому трону и сел на него. И сразу превратился в другого человека — в его лице появилось грозовое недовольство, словно у маршала Жукова перед битвой.
— Излагайте, — сказал он. — Но быстро и коротко. Я знаю, что вы умные. Докажите, что от вашего ума есть хоть какая-то польза. Ну?
Халдеи переглянулись, словно решая, кто будет говорить. Как я и ожидал, вперед шагнул Калдавашкин.
— Не секрет, что дискурс в России сегодня пришел в упадок, — сказал он. — То же касается и гламура. В результате они уже не могут в полном объеме выполнять свои надзорно-маскировочные функции. Дискурс кажется не храмом, где живет истина, а просто речитативом бригады наперсточников. От гламура начинают морщиться. Что еще хуже, над ним начинают потешаться. Упадок настолько глубок, что нам все сложнее держать человеческое мышление под контролем.
— А в чем проблема? — спросил Энлиль Маратович.
— Плохо с принудительным дуализмом.
— Чего? — наморщился Энлиль Маратович.
— Это проще всего пояснить по Лакану, — затараторил Калдавашкин. — Он учил, что правящая идеология навязывает базовое противоречие, дуальную оппозицию, в терминах которой люди обязаны видеть мир. Задача дискурса в том, чтобы сделать невозможным уход от принудительной мобилизации сознания. Исключить, так сказать, саму возможность альтернативного восприятия. Это абсолютно необходимо для нормального функционирования человеческих мозгов. А у нас с принудительным дуализмом совсем плохо. В результате смысловое измерение, которое должно быть запретным и тайным, зияет во всех дырах. Оно без усилий видно любому. Это фактически катастрофа…
Ознакомительная версия.