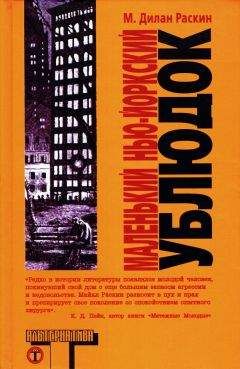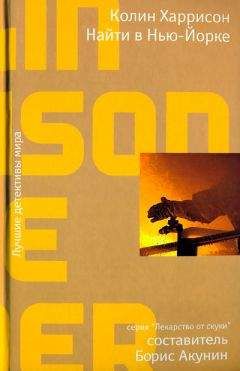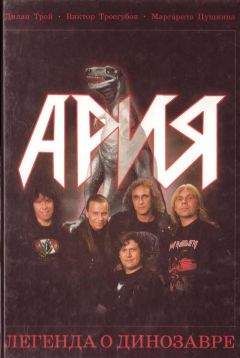Раздумывая об этом, я вдруг обнаружил в кармане вязаную шапочку и натянул ее на голову для тепла. Больше всего мне хотелось, чтобы здесь была Клео и чтобы, как в старые времена, когда после неудачного дня в школе я подходил к дому, я видел бы ее, сидящей на крыльце, пристроился бы рядом и стал рассказывать, какой ужасный у меня был день. Естественно, она бы ничего не ответила. Но сидела бы рядом, позволяя держать руку на ее спине, словно подтверждая, что она — на моей стороне, и всегда будет на ней, что бы ни случилось. Бывало, я дрался с хулиганьем в школе, и все на меня из-за этого набрасывались: учителя, друзья, родители, но только не Клео. Сколько бы я ни возвращался после подобных происшествий, Клео всегда ждала меня на ступеньках, приветствуя своей очаровательной конусовидной улыбкой и виляющим из стороны в сторону, как дворники на ветровом стекле, хвостиком. Она всегда была счастлива меня видеть. Ей было все равно, подрался я с кем-то в школе или провалил контрольную по математике. Потому что Клео была моим октябрем и одной из немногих, кто реально понимал, что такое октябрь. А октябрь для меня, пожалуй, — одна из любимейших в мире вещей. Не передать, как я тоскую, что теперь он пролетает как-то мимоходом, не задерживаясь. С самых ранних лет я был без ума от октября. Лето может катиться куда подальше со всеми этими долбаными гедонистами, которых оно так привлекает, и зиме, на мой взгляд, тоже пора валить ко всем чертям. Октябрь — единственный приятный и тревожный месяц, единственная пора по-настоящему пустых парков и старых призрачных деревьев, когда все вокруг пустынно, покинуто и жутковато. Единственное время в году, когда от затянутого тучами неба захватывает дух и появляется чувство, будто за мной охотится серийный убийца в маске. Понимаю, мало кому это покажется приятным, а вот мне — кажется, потому, может, что у меня с головой не все в порядке и потому, что я помешан на ужастиках восьмидесятых годов. Я просто обожаю октябрь и тоскую по нему невыносимо. Когда у меня отняли мою Клео, вместе с ней украли и октябрь, сукины дети. Теперь октябрь проносится со скоростью супермена. Не хочет задерживаться. Иногда я даже вижу, как в октябре подметают опавшие листья — мне этого никогда не понять. Ненавижу тех, кто этим занимается. Они портят и без того подмоченную репутацию общества.
В общем, я правда скучал по тем октябрьским денькам, которые мы провели вместе с Клео. И сидя в тот день под деревом в парке Линкольн, я вдруг вытянул правую руку, чтобы, если вдруг Клео окажется рядом, она поняла, что я думаю о ней и помню, как и обещал. Я-то знаю, ей не было бы дела до сцены, устроенной мной этим большевикам в книжном, уверен, что если бы она могла говорить, сказала бы, что всегда будет на моей стороне, и это натолкнуло меня на следующую мысль. Я задумался о том, что написал мне отец в ежедневнике еще в начальной школе. Я наткнулся на него за пару дней до отъезда из Нью-Йорка и перечитал эту запись, должно быть, раз сто. Даже наизусть выучил. У этого маленького красненького ежедневника все листы были разноцветными, и каждый из нас загнул по листку. Так что сбоку смотрелось прикольно. Отец писал на желтом листочке, вот его слова:
Дорогой Майк!
Я так тобой горжусь. Твои успехи в школе показали нам с мамой, каким ты будешь, когда вырастешь. Не могу дождаться дня, когда увижу, как ты спускаешься с трибуны с дипломом в руках. Это только начало твоих будущих успехов. Не сомневайся, обращайся за помощью в трудный момент, я всегда буду на твоей стороне,
Люблю, Папа.
Отец не был писателем или кем-то в этом духе, но иногда мне приходит в голову, как ему, должно быть, трудно было выражать свои мысли подобным образом, несмотря на то, что эта запись не гениальный образец высокой поэзии. Но хочу, чтобы вы поняли, мой отец не был каким-то старпером с лысой башкой и в штанах с вытянутыми коленками. Он выглядел очень молодо, с очками «Рэй-Бэн» на носу и в кожаной куртке на плечах. Мой отец был хорошим, добрым, веселым и трудолюбивым человеком. Он не был святым или блистательно гениальным, кого теперь из него делают, но он был чувак что надо. Странно наблюдать, как после его смерти каждый сукин сын, включая его собственную мать, говорят о нем только как о гении либо об ангеле. Да папа сам первый никогда бы с этим не согласился. Наверное, как и я, он просто расхохотался бы над этим. Потому что люди и правда настолько тупые, и память их настолько избирательна, что когда кто-нибудь отправляется на тот свет, они тут же начинают петь ему дифирамбы. При жизни никто моего отца гением не называл. Гением он был всенародно признан посмертно. И самое смешное, можете смело ставить последний доллар на то, что то же самое будут говорить и обо мне, когда я умру. Пока я хожу и дышу, все общество сходится во мнении, что я ленивый, апатичный, асоциальный, тупой прожигатель своих возможностей, впрочем, они не так уж далеки от истины. Но как только я умру, мигом стану в их глазах выдающимся, добропорядочным, блестящим воплотителем своих гениальных способностей. И так же, как моего отца, мой так называемый оригинальный, но загубленный во цвете лет ум будет обсуждаться на воскресных барбекю за городом. Как же это нелепо. Просто отвратительно.
В общем, сидя под деревом, я думал о том, что отцу не суждено увидеть, как я получу диплом, даже если я вдруг его и получу, и еще думал о его словах про то, что он всегда на моей стороне. Все не мог перестать гадать, что бы он подумал о том, что я сейчас выкинул в книжном, что уехал из Нью-Йорка, оставив маму совсем одну в нашей пыльной квартире. Я задрал воротник повыше, по самые уши. Было так уютно сидеть под деревом, укутавшись в болотного цвета пальто, защищавшее меня от холода, натянув воротник по самые уши, с путающимися в голове мыслями и даже не думать утирать слезы со щек. Я чувствовал себя маленьким потерявшимся ребенком. Я всегда терялся. Но как-то раз в детском саду я остался совсем один, когда остальные всем скопом бросились в автобус и уехали на какую-то экскурсию. Не помню точно, как это произошло, но помню, как остался совсем один в огромной комнате, сидя на полу. То место называлось «Алфавитный городок», и безответственные лохи, которые все это организовывали, видимо, уехали без меня, а я, помнится, сидел на оранжевом ковре в углу и, обхватив колени руками, рыдал, как идиот. Примерно так же я чувствовал себя в том парке, разве только был немного постарше и с растущей клоками белесой бородой.
К вечеру боль в горле значительно усилилась, похоже, я заболевал. И тело ломило. Голова болела, ноги болели, даже зубы, и те болели. Я чувствовал себя абсолютно несчастным. Поэтому просидел в парке не более двадцати минут, прежде чем перейти дорогу обратно к отелю. Войдя в вестибюль, увидел, что в «Луисе» в другой части холла устанавливают аппаратуру для местных дегенератов, которые будут веселиться тут вечером. Я на минуту задержался посмотреть за процессом установки, но эти поганцы, страдающие нарциссизмом, все как один стали бросать на меня подозрительные взгляды, будто я собираюсь их ограбить или еще что. При других обстоятельствах я бы остался стоять им назло, но я устал и был слишком угнетен, чтобы заморачиваться по этому поводу, так что, послав все к черту, шагнул в смертельную ловушку под названием лифт. Мне уже было по фигу, застряну я или нет. На тот момент меня не волновало, что лифтовой трос может оборваться и кабина рухнет в пыльную шахту. Если бы такое случилось, мне представилась бы великолепная возможность выстроить андеграундную империю, пустив в ход запасы личной изобретательности. Трос, как ни странно, почему-то не оборвался, и я доехал до шестого этажа без приключений. В коридоре стояла мертвая тишина, парочка резаных поросят за стенкой не подавала признаков жизни. Может, их наконец-то закололи. Кто знает? Правда, не могу сказать, что у меня бы от этого разорвалось сердце.
Было еще только три часа, а я уже чувствовал себя совершенно разбитым. Я плюхнулся на кровать и зарылся лицом в вонючие подушки. От этих подушек несло, как от больничных простыней. Приятных эмоций они точно не вызывали. Очень неприветливые и неуютные подушки. Стараясь изо всех сил не обращать на них внимания, я погрузился в тяжелые размышления. Не хотелось задерживаться без особых на то причин в этом проклятом городе, населенном всякими отбросами, я начал даже подумывать, а не податься ли западней. Оставались еще Калифорния, Орегон, Вашингтон и тому подобное. Впрочем, это было пока на уровне замыслов, я не чувствовал уверенности, что мне туда хочется. Я вообще не знал, куда ехать. Знал только, что Чикаго меня больше не устраивает. Этот город я уже ненавидел, ненавидел и все проживающее в нем чморье. Противно, когда ты никто, противно, когда на тебя срут, куда бы ты ни пошел. Знаю, что не раз повторял, как мне хочется оказаться в таком месте, где меня никто не знает, но, наверное, пришло время выразить свою мысль яснее. Я и правда хотел бы, чтобы меня не узнавали, но чтобы при этом я все-таки был кем-то. Не хочу иметь никаких дел и отношений с лютым и беспощадным звериным обществом, вести в нем жестокую борьбу за выживание, но мне бы хотелось быть частью его. Не хочу выполнять бессмысленную работу за гроши, как все эти пустые недоумки. Хочу делать что-то стоящее, хочу оставить след, свой собственный след в этом мире. И это желание ужасно меня напрягает, если учесть, какое я питаю отвращение к обществу, которое безжалостно уничтожает и стирает в порошок любой творческий порыв. Однако, должен сказать, перспектива увидеть упоминание о своей персоне в газете лишь в виде номера социального обеспечения в некрологе, пугает меня куда больше, чем миллион громких голосов за окном, внезапно обрушившийся среди ночи, который атакует мою акустикофобию.