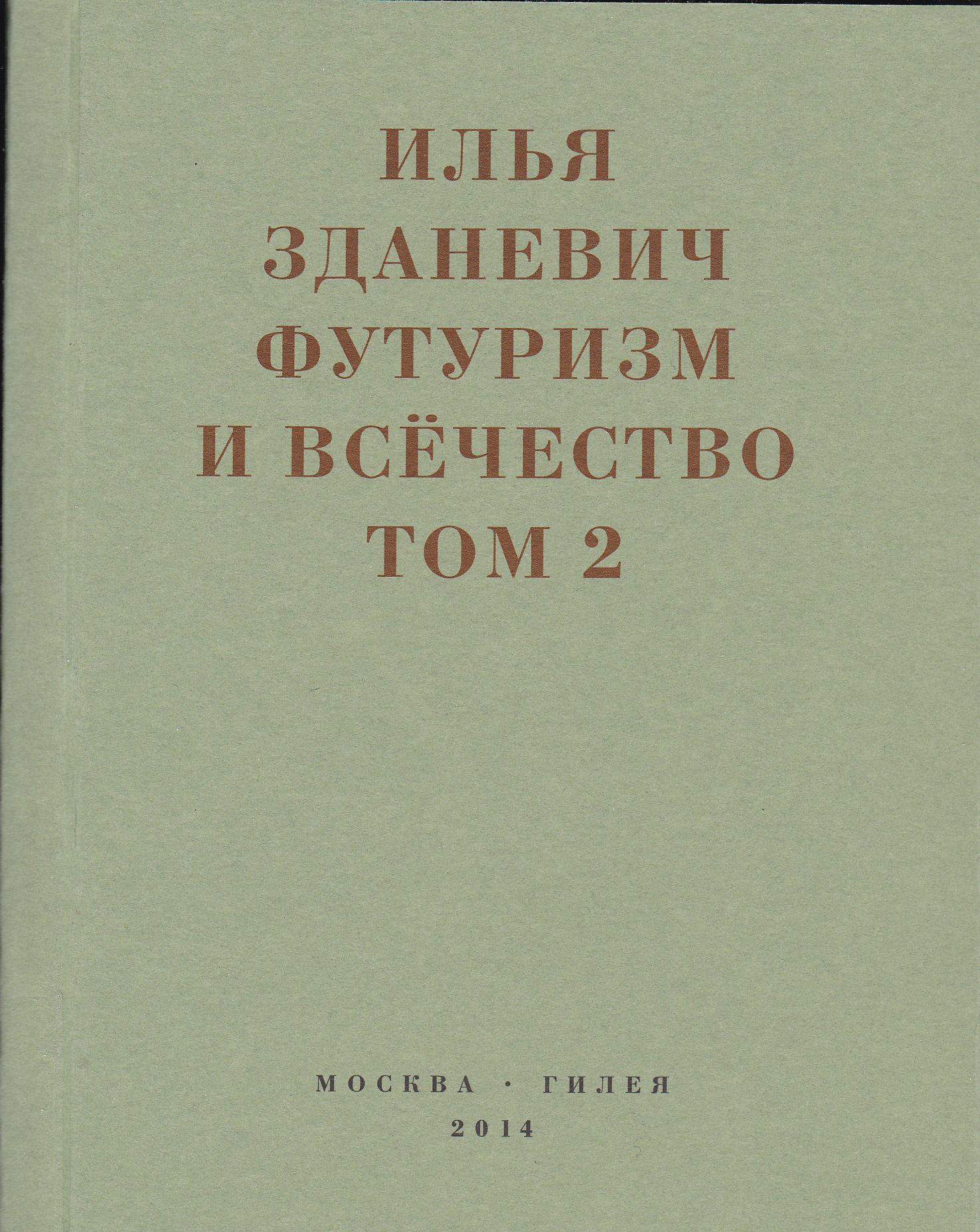впервые готов был признать Лаврентий, что изъян этот не в нем, а в окружающем миру, в гнусном общественном порядке, в мерзком государственном устройстве, в пошлости человеческой, и в самом Лаврентии только как отображение, и не на нем ответственность за происходящее.
Легко было прежде сваливать вину на себя. Жизнь, мол, прекрасна, я один несчастливый неудачник. Но теперь, когда Лаврентий остался как бы наедине с собой, уже понимал, что вина дольше не может пребывать какой-то неопределенной, а должна быть точно выяснена, нельзя дольше существовать в потемках и двигаться на ощупь, иначе не избежать еще более дурных последствий. И ему стало ясно до глупого, что он, Лаврентий, и окружение, которое он так презирает, одно и то же и его собственная вина есть уменьшенное воспроизведение всеобщей вины.
Лаврентий смотрел на Ивлиту, оборачивался на крестьянок, вспоминал день встречи с женой и смерть лесничего, сравнивал, как приводил его дочь в чувство тогда и теперь, и всему этому недоставало только слов, чтобы все было закреплено, и якобы прочную картину сидения в пещерах сменила новая, действительная и смертельная.
Сводило с ума сознание, что бессмысленно, беспутно все существование. И сколь отличными были теперь лаврентиевы размышления от дум во времена Галактиона или в деле с Василиском. Тогда были препятствия, противные, но которые мог Лаврентий преодолеть. Теперь же учитывал, что не только не наступает, не стоит на месте (пещерный век), но даже не уносится, преследуемый, так как некуда двинуться, всюду одно и то же небо, одна и та же земля, те же люди и камни и такая, что челюсти сворачивает от зевоты, одна и та же смерть.
Одно утешение осталось – Ивлита. Ивлита с ним, его понимает, исчезнет, замученная, подобно ему, пошлостью, плоскостью, горами, все равно, и умрет, но не сдастся уродливым сим крестьянкам, а он Аркадию.
Утешительница? Что это с ним? Куда его завели рассуждения? В чем утешительница? Чудовищная нелепость. Ивлита, ведь это всё. Ивлита любит Лаврентия. Чего же ему еще надо. Богатств? Но разве нужны ей? Вот, привез их, а разве обратила на них внимание? Сколько раз повторял себе: подвиги, деньги, не это главное; и себя сам не слышал. Дурак. Чего метаться, когда счастье здесь, простое обыкновенное взаимное счастье.
Точно гиря свалилась с Лаврентия. И, облегченный, почувствовал себя таким же бесхитростным и зеленым, как в прошлом году. Скорее бы очнулась Ивлита, обошлось все благополучно, и можно было, отрекшись от убийств, зажить безмятежной жизнью.
Но, когда Ивлита, придя в себя, подняла глаза, недобрые при свете сосновых щепок, пытаясь оттолкнуть Лаврентия и силясь произнести что-то нехорошее, что именно, Лаврентий не мог сразу уловить, молодой человек почувствовал, что хрупкое счастье готово вот-вот рассыпаться.
И постиг, что произошло в пещере перед его приходом. Не внешнее событие, не важное, но внутреннее, выражением какового была теперь Ивлита. И хотя Лаврентий не услышал, что пыталась изречь Ивлита, но уразумел: ее слова должны содержать приговор и который не только разрушит счастье, обретенное было, но, вероятно, сделает вовсе невосстановимым. Если бы только молчание длилось возможно дольше и как можно позже наступила развязка. Ибо было до ужаса очевидно, что развязка романа неизбежна, что предотвратить ее Лаврентий не в силах; и, будто бы храбрец, испугался, решил оттягивать, прекрасно понимая, что нельзя оттягивать до бесконечности. Сознавал превосходно, что время, ему отведенное, мало, и все-таки, зажав рот Ивлите, не хотел позволить сорваться с ее уст неотвратимому осуждению.
Ивлита немедленно поняла, почему Лаврентий давил ей на лицо. Не позволяя ей говорить, что хочет предотвратить этим? Разве может продолжаться это безумие? Мыслимо ли дольше упорствовать в заблуждениях? Упорствовать хотя бы на минуту? Пока дело шло о Лаврентии только, был свободен поступать, как ему вздумается. Но тот, третий, еще не пришедший, разве уже теперь не указывает путь Лаврентию и Ивлите? Разве они и сейчас свободны? Не принадлежат ли они тому, за кем будущее, кто призван быть памятником их Любовей?
И по мере того как силы возвращались, Ивлита все настойчивее старалась снять с уст печать Лаврентия. Она вспоминала, что ей совершенно так же хотелось заставить молчать Иону, потому что Иона орал то же, что она хочет сказать теперь, уже тогда тот предвидел, что она усвоила только ныне, после вторичного испытания. Откладывать дольше нельзя, она жестоко ошиблась, отказавшись слушать Иону, Лаврентий не смеет мешать ей говорить, это делает потому только, что уже ей не муж и не защитник, а всего света и ее плода убийца.
Бедный Лаврентий. На этот раз он, быть может, видел яснее всего и самым пагубным для себя образом. Догадывался, что если бы дал высказаться Ивлите, то услышал то же, что сказал себе только что, ее негодование направлено на его вольнодумство, она призывает к смирению, отказу от убийств, от борьбы, довольно, мол, пачкаться. Но Лаврентий понимал отчетливо разницу между свободой и принуждением и, бежавший в горы, чтобы не убивать по приказу, мог ли теперь по приказу сдаться. И насилие это, от Ивлиты исходившее, отняло бы всякую возможность смирения, нельзя было в таких условиях положить оружия, и, сознавая в то же время, что смириться все-таки надо, Лаврентий готов был на все, чтобы повеления не услышать, а свобода осталась якобы неприкосновенной.
И навалившись, продолжая зажимать Ивлите левой рукой рот, молодой человек правой схватил беременную за горло, порешив скорее задушить ее, чем дать ей высказаться. Он почувствовал, как под его ладонью что-то заклокотало и сквозь стиснутые зубы Ивлиты вырвался хрип, однажды им слышанный. Не так ли терзал это горло бывший лесничий? Лаврентий уже такой же сумасшедший и предсмертный старик. Пальцы отказывались вдруг повиноваться, и, несмотря на старания, не мог их продолжать сводить, одеревеневших, Лаврентий.
С силой, которой за ней он никогда не предполагал, Ивлита вцепилась зубами в покрывшую ее кисть, разломала другую, вросшую ей в горло, оттолкнула Лаврентия, вскочила, осыпая ударами, корчась от боли и бешенства.
Негодный к борьбе, оглушенный, израненный, он пятился к выходу из пещеры, и, по мере того как света прибывало, все отвратнее становилось зрелище красавицы со вздувшимся и размалеванным животом, видение столь невыносимое, что Лаврентий закрыл глаза, повернулся и бросился убегать в неизвестность.
Полномочия капитана Аркадия были неограниченными. Он мог ссылать крестьян целыми семьями на поселение или принудительные работы, отбирать имущество, подвергать истязаниям: пробе железом или битью плетьми, и расстреливать кого угодно, даже без предварительного суда. Эти