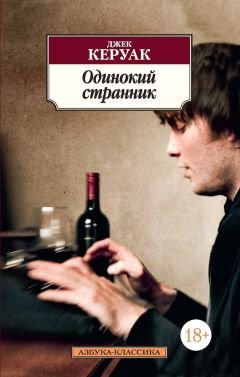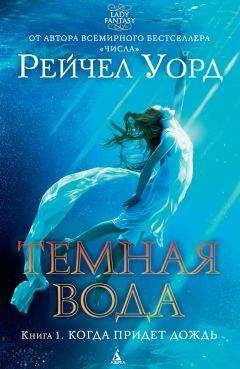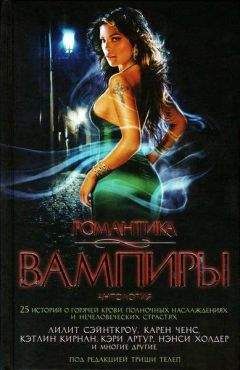Глава вторая
Новое утро
Проснувшись, Уэсли не удивился, что не знает, где находится. Он сидел на кровати и злился оттого, что видел всю свою одежду, кроме носков. Надев рубашку, брюки и куртку, он босиком присел на корточки и заглянул под кровать. Носков там не было.
Он вышел из комнаты, мельком глянув на Полли, спавшую на его кровати, и побрел по квартире в поисках носков. Зашел в ванную, где душно пахло мылом, и порылся в путанице шелкового белья, развешанных вискозных чулок и брошенных трусов. Носки не нашлись. Напоследок он заглянул под ванну. Нету.
Он потер зубы пальцем, ополоснул лицо, чихнул раза два или три и с мокасинами в руках вышел в гостиную.
Эверхарт сидел у окна и читал «Ридерз дайджест».
– Где, черт возьми, мои носки? – осведомился Уэсли.
– О, привет, Уэс! Как себя чувствуешь? – приветствовал Билл, поправляя очки, чтобы его разглядеть.
Уэсли сел и надел мокасины на босу ногу.
– Отвратительно, – признался он.
– Вот и я… может, бромо? Я сделал себе в буфетной.
– Спасибо.
Они пошли в буфетную, куда проникал слабый розово-голубой свет с утренней улицы. Эверхарт приготовил болеутоляющее, а Уэсли осмотрел содержимое холодильника и достал себе оттуда холодный апельсин.
– Кроме нас, никто не встал, – сказал Эверхарт. – Джордж всегда спит долго. Ив ушла на работу утром… Не могу сказать, что завидую ей, учитывая, сколько она выпила прошлой ночью.
– Ив – твоя девушка? – поинтересовался Уэсли.
Эверхарт протянул ему бромо:
– Ночью я был с ней, Джордж был с Джинджер.
Уэсли выпил.
– Ив работает в «Хайльбронере»[9], заканчивает в полдень. Джинджер скоро пора вставать – она модель. Парень! Ну и ночка…
Эверхарт последовал за Уэсли обратно в гостиную.
– Полли еще не проснулась? – спросил Билл.
Уэсли пожал плечами:
– Когда я встал, еще спала.
– Ты явно мастер с женщинами, – засмеялся Эверхарт, включая радио. – Она вчера была вся твоя, с Полли редко такое случается.
– Прелестный ребенок, – отметил Уэсли.
Он подошел к окну и сел на подоконник. Открыв створку, посмотрел вниз, на улицу. Было прохладное солнечное утро. Здания из коричневого песчаника, напоминавшие о старом Нью-Йорке, сурово стояли на фоне волшебного голубого неба, розовокрылый ветерок дышал в распахнутое окно. Слабый запах моря наполнял новое утро.
По радио начали передавать балладу Бинга Кросби[10]. Уэсли окинул взглядом улицу и в ясной дали увидел Гудзон, сияющее зеркало, усеянное торговыми судами.
Эверхарт встал рядом:
– Чем занимаешься, Уэс?
Уэсли указал на суда на реке.
Эверхарт взглянул туда же:
– Моряк торгового флота, да?
Уэсли кивнул, предложил другу сигарету, и они молча закурили.
– Каково это? – спросил Эверхарт.
Уэсли перевел на него карие глаза.
– Стараюсь прижиться в море, – сказал он.
– Одинокое дело, правда?
– Да, – согласился Уэсли, выпуская двойной завиток дыма из носа.
– Я всегда думал о море и кораблях, о таких вот вещах, – сказал Эверхарт, уперев взгляд в далекие суда. – Сбежать от всей этой чепухи.
Они услышали женский смех из спален, мощный взрыв тайного веселья, который вызвал у Эверхарта робкую улыбку.
– Девчонки проснулись, и над чем же они смеются?
– Женщины вечно так смеются, – улыбнулся Уэсли.
– Не говори, а? – согласился Эверхарт. – Часто раздражает: а вдруг они смеются надо мной…
Уэсли улыбнулся Эверхарту:
– С чего бы им?
Эверхарт рассмеялся и снял очки, чтобы протереть; без них он выглядел гораздо моложе.
– Но я тебе кое-что скажу: нет утром ничего приятнее женского смеха в соседней комнате!
Уэсли открыл рот и распахнул глаза в своем молчаливом хохоте.
– Чья это квартира? – спросил он некоторое время спустя, швыряя окурок на улицу.
– Ив, – ответил Эверхарт, поправляя очки. – Она пьяница.
Из соседней комнаты голос Полли обиженно спросил:
– Мой Уэсли ушел?
– Нет, он еще здесь, – крикнул в ответ Эверхарт.
– Какой милый! – сказала Полли из-за стенки.
Уэсли на окне улыбнулся. Эверхарт приблизился к нему:
– Может, к ней пойдешь?
– Хватит. Две недели только этим и занимался, – поделился Уэсли.
Эверхарт от души рассмеялся. Он крутил радио, пока не нашел подходящую программу.
– «Боевой гимн Республики»[11], – объявил он. – Прекрасная старая мелодия, не так ли? Какие мысли она тебе навевает?
Оба послушали, затем Уэсли дал ответ:
– Эйб Линкольн и Гражданская война, пожалуй.
Джинджер ворвалась в комнату и воскликнула:
– Боже! Только посмотрите на эту комнату!
Зрелище и в самом деле было прискорбное: стулья перевернуты, бутылки, стаканы и шейкеры разбросаны повсюду, а ваза у дивана – разбита.
– Надо бы мне тут прибраться до работы, – прибавила она, в основном сама себе. – Как чувствуешь себя, Коротышка? – спросила она Эверхарта. А затем, не дав ему ответить: – Уэс! Ты выглядишь прекрасно? У тебя нет похмелья?
Уэсли кивнул на Эверхарта:
– Он дал мне бромо. Мне прямо вот хорошо.
– Прямо вот хорошо, – эхом отозвался Эверхарт. – В последний раз я слышал это выражение…
– Джордж до сих пор дрыхнет, – перебила Джинджер, суетясь вокруг, собирая бутылки и вещи. – Старый ленивый хлюп.
– В последний раз я слышал «прямо вот хорошо» в Шарлотт, в Северной Каролине, – продолжит Эверхарт. – Если спрашивать, где что-нибудь, они там тоже говорили, что оно «прямо вот там». Я думал, ты из Вермонта, Уэс?
– Я из Вермонта, – улыбнулся Уэсли. – Но я мотался по стране; два года провел на юге. Оборотцы ко мне цепляются.
– Бывал в Калифорнии? – спросил Эверхарт.
– Да везде – в сорока трех штатах. Кажется, пропустил Дакоту, Миссури, Огайо и еще несколько.
– И что делал, просто околачивался? – поинтересовался Эверхарт.
– Работал тут и там.
– Боже мой, уже десять часов! – удивилась Джинджер. – Давайте сейчас же позавтракаем! Мне бежать пора!
– Яйца есть? – спросил Эверхарт.
– Ох черт, нет! Мы с Ив доели вчера утром.
Полли вошла в комнату в халате Джинджер, улыбаясь после душа.
– Мне стало лучше, – сообщила она. – Доброе утро, Уэсли! – Она подошла к нему и вытянула губы: – Поцелуй меня!
Уэсли чмокнул ее в губы, а затем медленно выдохнул облако дыма ей в лицо.
– Дай затянуться! – потребовала Полли, потянувшись к его сигарете.
– Спущусь и куплю яиц и свежих булочек, – сказал Эверхарт Джинджер. – Завари свежий кофе.
– Ладно!
– Пойдем со мной, Уэс? – позвал Эверхарт.
Уэсли взъерошил волосы Полли и поднялся:
– Иду!
– Возвращайтесь скорее, – с легкой соблазнительной улыбкой сказала Полли, косясь сквозь облако сигаретного дыма.
– Скоро вернемся! – крикнул Эверхарт, хлопнув Уэсли по спине.
В лифте они все еще слышали «Боевой гимн республики» из радиоприемника Ив.
– Эта музыка наводит тебя на мысль об Эйбе Линкольне и Гражданской войне, – припомнил Эверхарт. – Как и меня, но меня она еще и бесит. Я хочу понять, что, черт возьми, пошло не так и кто налажал.
Лифт остановился на первом этаже, и двери раздвинулись.
– Этот старый клич «Америка! Америка!». Что случилось с его значением. Как будто Америка – это просто Америка – красивое слово для красивого мира, – и люди пришли к ее берегам, сразились с дикими аборигенами, развили ее, разбогатели, а теперь сидят себе, зевают и рыгают. Боже, Уэс, если б ты был старшим преподавателем английской литературы, как я, с этими песнями, что вечно твердят: «Давай! Давай!» – а затем посмотрел бы на свой класс, выглянул за окно, и вот она – твоя Америка, твои песни, кличи твоих пионеров, бросающих вызов Западу, – полная комната скучающих ублюдков, грязное окно на Бродвей с его мясными рынками и барами и бог знает чем еще. Значит ли это, что отныне фронтиры – лишь в воображении?
Уэсли, надо признать, слушал вполуха: он не совсем понимал, о чем рассуждает его друг. Они уже вышли на улицу. Впереди какой-то цветной сгребал черную кучу угля в дыру на тротуаре: уголь мерцал сиянием утреннего солнца, будто черный холм, усыпанный самоцветами.
– Безусловно так, – сам себя уверил Эверхарт. – В этом есть перспектива, но нет романтики. Нет больше оленьих шкур, и шкур енотов, и винтовок, и горячего масляного рома в Форт-Дирборн[12], нет больше троп на речном берегу, нет больше Калифорнии. Этот штат – конец всему; если бы Калифорния протянулась по миру до самой Новой Англии, мы бы ехали на Запад бесконечно, снова делая открытия, перестраивая и двигаясь дальше, пока цивилизация не превратилась бы в шестидневный велопробег, и на каждом повороте – новые возможности…
Уэсли, вместе со своим словоохотливым другом обходя груду угля, обратился к человеку с лопатой:
– Эй, папаша! Не слишком усердствуй.
Человек поднял глаза и счастливо улыбнулся:
– Осторожнее! – крикнул он, улюлюкая от восторга, опершись на лопату. – Ты не просекаешь – я не надрываюсь! Ху-ху-ху!