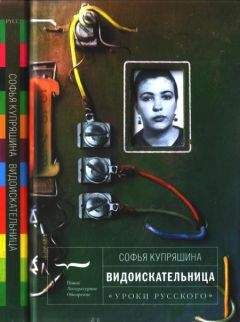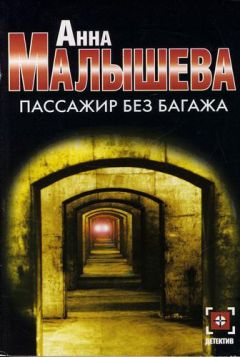Ему кем-то положено быть странным писателем с отвратительными манерами и клептоманией, а мне этого кем-то не положено. Мне почему-то надо не расслабляться.
— Почему? Не понимаю, — как сказал Сапасн-II.
Отсюда же — разговоры о моем сумасшествии. Он просто не может пережить моих странностей, очень бурно на них реагирует и тем самым углубляет (их).
Когда я осознала, что пародирую самое себя в невиданных доселе масштабах, мне стало горько.
О, если бы он молчал! Если бы он не фиксировал свою фиксацию, если бы не брал у меня столько денег! О! О!
«Она требовала гарантий…» — писал где-то Сорокин.
Он гарантий не требовал, он напряженно ждал их. А это хуже, чем требование. В ответ на просьбу можно послать, а в ответ на молчаливое ожидание остается только злиться. Что и…
Тем более, его просто физически чувствуешь: это ожидание мужское, густое, можно сказать — плотное, можно — императивное. Оно не оставляет тебе права отказа.
И что остается тебе в таком случае? Стучаться искусственным хуем в двери справедливости? Купить хорошей водки? Напиться, как сука? Изнемочь от слез? Кататься на ручке двери? Долго нюхать забытый им свитер? Или лучше носки? Позвонить забытому любовнику и узнать, что он женился? Пожелать счастья? Потрогать средним пальцем правой руки клитор, пристально глядя в темнеющее окно? Повращать его по часовой стрелке? Радоваться тому, что он у тебя есть? Радоваться смущенно, по-детски до конца не понимая причину радости, радоваться и слегка надавливать, и трепетать им, как птичьим сердцем, и представлять себе разное, славно, славно, славно, славно… боже… боже… боже…
Деревья уже совсем как весенние.
Не знаю, какой аспект наших с С. отношений затронуть следующим. Их осталось всего два: ебля и пьянство.
Еблей кончать банально, но логично, пьянством — тоже не особенно оригинально и совсем нелогично (хотя почему?), но с этим делом я чаще встречаюсь в жизни, этим я чаще сыта, так что по причине двойной банальности и одинарной нелогичности с пьянства и начнем.
Ну что вам сказать, граждане судьи? Мне стыдно. Я от стыда свиваюсь в жгут. Я не могу остановиться. В глазах все двенадцатирится, летают черти там и тут, они мне шепчут: подожди! еще стакан — и все прекрасно. Но ожидание напрасно ………………
(В душе опять идут дожди).
Напрасно оно. Край иллюзий так же пошл, как и край реальности. Просветы где-то посредине: на граммах, я думаю, двухста пятидесяти (для меня). Да что говорить — все это до меня сказали: Венедикт Ерофеев — грустно, нежно и без претензий на что-либо; обстоятельно — публицист Гандлевский, что и сейчас живее всех живых; мистификатор Андрей Битов, знающий толк в пропорциях, и многие еще другие. Эту тему, на мой взгляд, не могут освежить теперь даже новые байки — что и с кем произошло в процессе. Олеша был прав: быть трезвым также интересно, как и пьяным…
Но я про что-то другое — «любовь и водка», что ли? Опять все сводится к иллюзиям. Еще бы надо про комплексы сказать — да чего-то затошнило меня. Этот вопрос я еще не решила. Я его потом решу.
Мне кажется, что в предыдущем пункте я не договорила что-то о гарантиях. Кто чего требовал и ждал. Он ждал от меня гарантий нормальности. Я вместо того отгарантировала ему полную ненормальность (сыграла). Он ждал гарантий, что «майн характер гут». И тут жестоко обманулся, но в другую сторону. Не скрою, мне стоило изрядных трудов играть, с одной стороны, сумасшедшую, с другой стороны, покладистую мирную бабу. Есть такие, хотя редко. На самом же деле я была нормальная истеричка с говенным характером.
А он опять же не просек…
Да, я знаю, тут есть небольшое противоречие — насчет ненормальности, но оно настолько незначительно, что его можно принять как погрешность, — в математическом смысле этого слова. Ну, короче, странности — в пределах нормы.
И все, и хватит об этом.
Нуте-с, пьянство. Это был, кажется, первый (после огромного перерыва) человек, с которым мне хотелось жить по трезвости: говорить, иметь близость (гм!), существовать как-то в пространстве и во времени — и именно он оказался горьким пьяницей. Ну то есть не горчайшим, конечно, но именно со мной он хотел все время пить. Вот хуйня какая. Я ведь чуть-чуть не завязала, поскольку, как было сказано выше, стала терять интерес к алкогольной эстетике. Это охлаждение шло в жизнь через искусство, как всегда. У меня перестал возникать слюноотделительный на фразы типа: «Он вынул из просторной, холщовой, повидавшей виды сумки запотевшую от мороза бутылку Русской водки, крякнул, хрюкнул, икнул, достал грибы, тряпку, чтобы протереть стол, а кругом были пыль и бутылки, пыль и бутылки, и он ловко подцепил крышечку, запрокинул головку, мило раздвоенную (чего?!), и кгистально чистая, пахучая на морозце влага полилась из нее! Из нее — опрятной бутыли с надписью «Cool before drinking», со следами темного заводского клея, с маркировкой на донышке и с загадочной аббревиатурой на золотой блестящей крышечке: ППЖ-ОРЗ-КПЗ-ОГОГО.»
Но дальше исчезновения рефлекса дело не пошло. Его аппетитно чмокающие, яркие от водки губки и мокрые желтые усы делали свое пагубное дело. Он стремительно пил и стремительно глупел, а мне ничего другого не оставалось, как восстанавливать между нами равновесие — иллюзорное, опять же. Мне хотелось именно равновесия, и — в идеале — трезвого. Он этого не хотел, не мог, боялся…
Так бывает. («Соглашательница!»)
«Ты не знаешь, какой я злой в трезвом виде», — говорил он. Я знала, какой он злой в определенные периоды процесса пития, а ничего хуже себе представить не могла. Возможно, у меня плохо с воображением.
Так что же было хорошего? Да все.
И тут мы подходим к последнему пункту.
Пункт последний.
Застрелиться мне из хуя, в самом деле, как знатно он ебался! Как непонятно, ново, значительно.
Каждое утро мне хотелось бы класть на его резиновый заплеванный коврик перед дверью пять розочек: чайную, белую, светло-алую, розовую и бордовую. Таких влажных. И чтоб никто их, борони Боже, не спиздил. Осыпать его розовыми лепестками, прикладывать их к его щекам; когда он будет в белых лепестках — глаза будут охро-зелеными, когда в бордовых — цвета красного дерева. В них будут искорки. И пусть он будет чуть-чуть поддатенький, Бог с ним.
Мы будем ощипывать и покусывать цветочки. Цветы созданы, чтобы их о(т)щипывать, как на уровне стебля, так и на уровне лепестков. Затыкать ими вазы — пошло… Что еще будет?
Его чубчик — темно-зеленый с белым, рыжие усы, руки — прочные и невесомые, руки — малиновые и мягкие (вы клали себе когда-нибудь пастилу на причинное место — между концом клитора и началом лобка? — вот положите, почувствуйте…)…
Окна высотного дома напротив залиты майонезом весеннего солнца. Точно такой же майонез был на картинке в книге Микояна «О вкусной и здоровой пище», которая стояла на полке в темном небольшом коридоре, а коридор был темным оттого, что там было много дерева: светлые, но тусклые стеллажи и небольшая по длине, но высокая полка, черно-красная, на которой стояли учебники французского языка, книги о вкусе, уксусе и куске (это еще что такое?), затем — зернистая Микояна, а солнце вплывало в соседнюю комнату, именуемую «кабинет», и там давало уроки геометрии на бледно-палевых обоях с рисунком цветов или пастей.
Майонез через десять минут превратился в жемчуг, да такой — серо-желтый, такой матово-бликующий, что стало ясно: весна.
«Отчего же майонез был сер»? — спросит любознательный читатель. «А от того, — отвечаю, — что тогда все было серое — точнее, сложноцветное; не умели, или слишком умели фотографировать».
Чистого белого цвета в природе нет. А что вы скажете про синеватые пельмени? В них есть нечто мертвенное. Значит, остается одно: серая желтизна, каплю зеленого и капельку розового надо прибавить к этим белилам. И как аппетитно! Это же настоящий бон аппети! А там и устрицы (ну их!), что-нибудь с кровью, с зеленью, с печеными фруктами и тонко наструганной лошадью (чего?!).
Утром в комнате пахло не очень хорошо. Я сразу вставала и делала завтрак из того немногого, что успела своровать у соседа, а именно — горячие бутерброды с расплавленным сыром.
Он даже и не думал вставать. Даже не было надежды, что он откроет свои прекрасные заплывшие глаза, потянет своим красным и длинным носом, скажет «фу», вытянет вперед волосатые руки, повозит ногами в шерстяных носках туда-сюда, накинет на зябкие плечи простыню и что-то пробормочет. На это надежды не было.
Съев все то немногое, я снова ложилась к нему, ощущая сильное желание много и подробно, то есть добротно, а, может быть, и дробно, а, вернее сказать, прочно и основательно ебаться. Я видела, что по небу плывут облака, голые ветки тополей розовы и блестящи, на крышах лежит грустный снег в тени, а на свету он тоже грустный, очень грустный снег… Зато не грустили семена какого-то другого дерева. Я сунула ему руку в штаны. Там была полуготовность. У меня забилось сердце. Свет завернул за угол. «Кто бы пососал мне клитор?» — горестно подумала я. Он спал. Окна были не майонезом, а пасмурной водой Москвы-реки, в них появилось много зеленого. И снова вспыхнуло: ослепительно, сразу и — устойчиво. Кажется, он так и не проснулся никогда. Или стал ходить по комнате, причитать, охать, вдохновенно прихлебывать одеколон, говорить, как он ослаб, пахнуть так, как это может только он. А я все ждала. Мне все равно было хорошо, потому что я была где-то совсем не здесь, и все воспринимала через толщу великого обновления. Я желала жалеть, а не зверствовать.