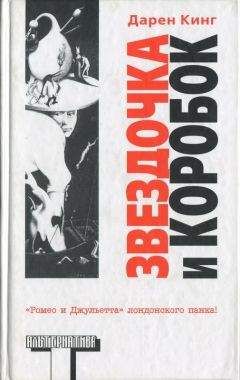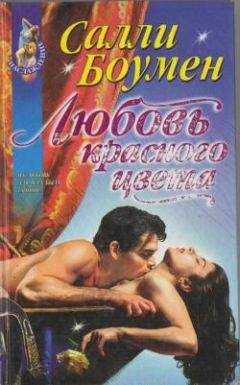Там, снаружи, уже темнеет. Снаружи темнеет, и все становится темно-синим. Мне нравится, когда все синее, я люблю синий цвет, он красивый, но темно-синий и синий — это совсем не одно и то же, это два разных цвета. Есть закаты, которые просто синие, а есть которые немного с оранжевым. Когда закаты с оранжевым, это красиво и не так сильно темно. Точно так же, как со мной и со Зве...
Нет. Лучше об этом не думать. Какой смысл думать о том, чего нет. А ее сейчас нет, я один, без нее, и тут уже ничего не поделаешь. Есть только я.
Поезд останавливается. Я смотрю в окно. Снаружи темно, но мы подъезжаем к станции, и там горят фонари, и еще — буквы на здании вокзала. Там написано: Реддинг. Горящими буквами. В моем купе — никого, кроме меня. Я один. Никаких других бизнесменов. Только я. Я — единственный бизнесмен в этом купе. Раньше тут был еще один. Ральф Эггертон. Но теперь его нет. Он встретил знакомого, еще одного бизнесмена, и они вместе ушли. А я остался сидеть. Сам по себе. Один, без никого.
Но сейчас мне пора выходить.
Я встаю с места, выхожу из поезда на перрон. Двери поезда закрываются.
И я остаюсь на перроне.
Сижу один на скамейке, которая на платформе, где раньше был поезд, но теперь его нет, потому что он уже уехал. Тот самый поезд, с которого я сошел. Я сижу и смотрю на людей, которые стоят на платформе, ждут поезда, только другого, не того, на котором приехал я. Я наблюдаю за ними, как они ходят туда-сюда, как будто это какой-то совсем другой мир, который проходит мимо. Он смеется надо мной, ну, этот мир, который проходит мимо, и наблюдает за мной, как я сижу на скамейке совсем один и не знаю, что делать дальше. Мимо проходит какой-то дяденька, бизнесмен. Он смотрит на меня. Это не Ральф и не Рубрик Латинос. Это какой-то другой бизнесмен, незнакомый. Сейчас поздний вечер, все бизнесмены едут домой, дома их дожидаются жены, готовят ужин, накрывают на стол. Мимо проходят какие-то чернокожие парни, но один не совсем чернокожий, а только чуть-чуть. Толстые дяденьки, тонкие дяденьки. Высокие и низкорослые. И еще — толстые тетеньки в черных сверкающих туфлях. И еще — молодые ребята в джинсах, у них у всех такой вид, как будто им нет никакого дела ни до чего. Они просто гуляют, болтают и курят, и им ни до чего нет дела.
Я сижу на скамейке, которая на платформе. По платформе идет мертвый мальчик. На нем футболка, а на футболке написано: «Ствол — самый умный». Мертвый мальчик даже не смотрит на меня, проходит мимо. Он какой-то сердитый. Он проходит мимо, и теперь мне видно, что написано у него на футболке сзади: «И мертвый».
Интересно, а как я выгляжу со стороны? Сижу на скамейке, на платформе, которая на вокзале. В костюме, как у настоящего бизнесмена, хотя я вовсе и не бизнесмен. Наверное, со стороны это выглядит очень смешно.
Я встаю со скамейки. Достаю из кармана билет на поезд. Это такая карточка из твердого пластика. Я читаю, что там написано, на карточке. Там написано: «Реддинг». Я надеюсь, что это не просто билет туда, а туда и обратно, потому что я не собираюсь торчать тут всю ночь и смешить людей...
Ральф подбегает ко мне, к тому месту, где я стою. Он весь запыхался, щеки красные, как попа у малыша, которого отшлепали по попе. Ральф говорит:
— Ствол. Прости, ради Бога. Ты же знаешь, как это бывает...
Я молчу. Потому что я злюсь.
— Да ладно, Ствол. Не сердись. Прости нас с Рубриком. Мы слегка... э... увлеклись. — Ральф сует руки в карманы. Портфель он поставил на землю, у ног. Он оглядывает всю платформу, потом опять смотрит на меня. Я снова сел на скамейку. Я все еще злюсь. — Ты не подумай, Ствол. Ничего не было. Это все — чисто платонически. Кстати, ты хочешь есть?
Я киваю.
— Пойдем поедим. — Ральф протягивает мне руку и говорит: — Ну, вставай. — Я беру его руку, и он помогает мне встать. Мы идем ужинать.
— Так, я, наверное, начну с супа. А ты, Ствол? Уже выбрал?
Я читаю меню. Ральф Эггертон сидит прямо напротив и смотрит на меня. Официант стоит рядом и тоже смотрит на меня. Держит в руках карандаш и блокнотик. Я читаю меню.
— Ствол, вот здесь. — Ральф говорит: — Видишь? Закуски и первые блюда.
— А, — говорю. — Я буду... я буду... вот, креветки на булочке.
— Хорошо. — Ральф Эггертон смотрит на официанта, который пишет у себя в блокноте. — Грибной суп «Ядреный» и креветки на булочке. Ствол, хочешь чего-нибудь выпить?
Я улыбаюсь. Нет, нет и нет. Только не апельсиновый сок с газировкой.
— Я буду вино.
— Вино. — Ральф смотрит на официанта, который ждет с карандашом наготове. Он — настоящий профессионал. Ральф говорит: — Бутылку красного.
— Хорошо, сэр.
— Теперь горячее. Я, пожалуй, возьму spaghetti con le punte di asparagi. — Ральф ставит локти на стол и улыбается мне, положив подбородок на руки. — Ствол, ты что-нибудь выбрал?
Я качаю головой.
Ральф берет меню, смотрит в него и говорит:
— Вот. Тебе точно понравится. Pennette tricolori con pepperoni e pomodori secchi. Ты любишь перец?
Я киваю.
— Вот и славно. — Ральф смотрит на официанта. Отдает ему меню и говорит: — Spaghetti con le punte di asparagi и pennette tricolori con pepperoni e pomodori secchi. И ваш самый лучший фирменный десерт. Две ложки. Спасибо.
— Хорошо, сэр.
Ральф Эггертон смотрит на меня и улыбается. Его усы как будто подрагивают в мерцающем свете свечей. Он мнет в пальцах салфетку, которая красная. Потом кладет салфетку на стол. Стол накрыт клетчатой скатертью в красно-белую клетку. Ральф улыбается и говорит:
— Ну ладно, вернемся к нашим баранам.
— К каким баранам?
— К нашему прерванному разговору. — Ральф говорит: — Вести разговор — это большое искусство. Расскажи мне о себе. О своей личной жизни.
— О чем?
— Ствол, у тебя сейчас кто-нибудь есть? С кем ты встречаешься... э... и вообще?
— Да, — говорю. — У меня есть девушка.
— И как ее зовут?
— Звездочка, — говорю. — Но сейчас мы с ней не видимся.
— Решили устроить себе перерыв?
— Ну, типа того.
— Порезвиться на травке?
— Мы не резвимся на травке. Ее вообще не выпускают из дома. Мама ей не разрешает никуда выходить.
— Все ясно. — Ральф говорит: — Отношения между мужчиной и женщиной — они всегда непростые. Всегда подавляют и обременяют. А, вот и вино.
Официант приносит вино. Держит бутылку, обернув ее полотенцем. Ну, как будто бутылка грязная или противная, хотя она вовсе не грязная. И не противная. Это очень хорошая бутылка. Просто шикарная. Официант разливает вино по бокалам. Один — для Ральфа, второй — для меня. По вкусу — как черная виноградная шипучка, только без газа.
Ральф говорит:
— А вы с этой девушкой... с твоей подругой...
— Со Звездочкой.
— Да. — Ральф говорит: — Вы со Звездочкой. Вы с ней...
— Что?
— Вы с ней...
— Что?
— Вы с ней ходите по ресторанам?
Я качаю головой.
— У нас с ней не так много денег.
— Жаль. Очень жаль. — Ральф поднимает глаза к потолку. Под потолком крутится вентилятор. — Ничто так не сближает, как интимная трапеза при свечах. Сколько сердец соединилось над ресторанными столиками.
Я пожимаю плечами.
— Я бы сказал, что немало.
— Ну, — говорю, — это все для богатых.
— У вас тоже должны быть свои рестораны, которые недорогие.
— Ничего у нас нет.
Ральф задумчиво чешет подбородок.
— Тогда как же вы сходитесь? Э... в смысле, общаетесь?
— Ну...
— Любовь расцветает в подходящей для этого обстановке. А если такой обстановки нет... как же тогда?
— Я не очень в этом понимаю. — Я пытаюсь ему объяснить: — Я просто люблю ее, и все такое. Очень люблю. Но когда я не ем таблетки...
— Таблетки?
— Да, — говорю. — Ну, знаете. Ешки и стразы.
Ральф понимающе кивает и говорит:
— Понятно. Продолжай.
— Когда я не ем таблетки, я вообще ничего не могу. Ну, в смысле любви.
— У тебя сложности?
— Да.
— Тебе трудно выразить...
— Да.
— Трудно сказать ей...
— Ага.
— Что ты ее любишь.
— Нет. — Я подбираю слова. Думаю, как лучше сказать. Этот дяденька — он все понимает. С ним можно говорить обо всем. — Я ей всегда говорю. Ну, что люблю. Это как раз очень просто. Сказать можно все, что угодно. Говорить — это совсем не сложно. Сложно другое. Понимаете, я не могу... как бы это сказать. Ей вечно хочется всяких глупостей. А мне совершенно не хочется никаких глупостей. Мне хочется глупостей, только когда я наемся таблеток или когда Звездочка на меня сердится и не хочет, чтобы я к ней приставал. У нас так всегда: мне хочется, только когда ей не хочется.
— Да, понимаю. — Ральф Эггертон кладет руки на стол, на клетчатую скатерть, которая белая в красную полоску. — Тут мы имеем классический случай репрессии.
— Что? — говорю.
— Это когда человек подавляет свои сексуальные желания. Из страха показаться смешным. И позволяет страстям прорываться наружу только в моменты, когда партнер...