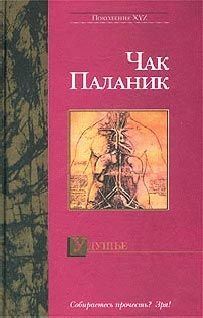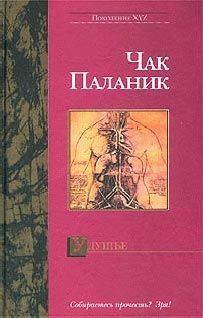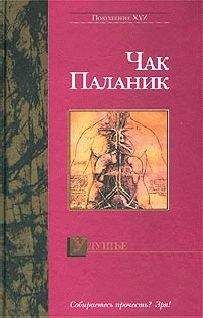Прошли золотые времена «Локхидов Супер-Созвездий», где каждый сортир по левому и правому борту был двухместным номером: раздевалка с отдельным туалетом за дверью.
Пот струится по её гладким мышцам. Мы вдвоём кроем друг друга: две совершенные машины, выполняющие работу, для которой созданы. Иногда минутами соприкасаемся только моей поршневой запчастью и её краешками, которые влажнеют и выбиваются наружу; плечи мои отведены назад и развёрнуты по пластиковой стенке, остальная моя часть ниже пояса тычется вперёд. С пола Трэйси переставляет одну ногу на край раковины и опирается на поднятую коленку.
Нас лучше разглядывать в зеркале: на плоскости и за стеклом, в фильме, в файле, на странице журнала: кто-то другой, не мы, — кто-то красивый, без жизни и будущего вне данного момента.
Вашей лучшей ставкой на «Боинге 767» будет большой центральный туалет в конце салона туристского класса. Вам совершенно не подфартило, если вы на «Конкорде», где туалетные отсеки миниатюрны — хотя это моё личное мнение. Если вы там будете только отливать, разбираться с контактными линзами или чистить зубы — уверен, места хватит.
Но если у вас возникнет желание провернуть то, что «Кама Сутра» называет «ворон», или «квизад», или всё остальное, для чего нужно больше двух дюймов движения туда-обратно, то лучше надейтесь попасть на «Европейский Аэробус 300/310» с его широченными задними туалетами в туристском классе. Для полочного места и простора для ног таких же размеров — нет ничего лучше двух задних туалетов «Британского Авиаборта Один-Одиннадцать» для полного счастья.
Где-то на северо-северо восток над Лос-Анджелесом я почти растираю себе кое-что, поэтому прошу Трэйси отпустить.
И спрашиваю:
— Зачем ты это делаешь?
А она говорит:
— Что?
«Это».
А Трэйси улыбается.
Людям, которых встречаешь за незапертыми дверями, надоело болтать о погоде. Здесь люди, уставшие от надёжности. Здесь люди, которые переделали ремонты слишком во многих домах. Здесь загорелые люди, которые бросили курить, употреблять сахар, соль, жиры и мясо. Это люди, которые наблюдали, как их мамы с папами и дедушки с бабушками учатся и работают всю жизнь лишь для того, чтобы потерять всё в итоге. Растрачивают всё, чтобы остаться жить на одной только питательной трубке. Забывают даже, как жевать и глотать.
— Мой отец был доктором, — говорит Трэйси. — А там, где он сейчас, ему не вспомнить и собственное имя.
Те мужчины и женщины, которые сидят за незапертыми дверьми, знают, что дом попросторнее — это не ответ. Как и супруг получше, денег побольше, кожа поглаже.
— Чем ты не обзаводись, — говорит она. — Всё оказывается лишь очередной вещью, которую придётся потерять.
Ответ в том, что ответа нет.
На полном серьёзе, момент вышел тяжеловатый.
— Нет, — отвечаю, проводя пальцем между её бёдер. — Я про вот это. Зачем ты бреешь шерсть?
— Ах, это, — говорит она, закатывая глаза и улыбаясь. — Чтобы можно было носить стринги.
Пока я устраиваюсь на унитазе, Трэйси изучает себя в зеркало, видя не столько своё лицо, сколько то, что осталось от её косметики, — и одним влажным пальцем подчищает смазанный край помады. Растирает пальцами крошечные следы укусов около своих сосков. То, что «Кама Сутра» назвала бы «рассеянные облака».
Она говорит, обращаясь к зеркалу:
— Причина, по которой я странствую, в том, что если вдуматься — вообще нет причин делать всё, что угодно.
Нет смысла.
Здесь люди, которые не столько хотят оргазма, сколько просто забыть. Всё на свете. Только на две минуты, на десять минут, на двадцать, на полчаса.
Или, может, когда с людьми обращаются как со скотом, так они себя и ведут. А может — это просто повод. Может им скучно. Может быть, никто не приспособлен торчать целый день, втиснувшись в консервную банку, набитую другими людьми, не шевеля ни мускулом.
— Мы здоровые, молодые, бодрые и живые люди, — говорит Трэйси. — Если присмотреться — какое поведение более неестественно?
Она одевает назад свою блузку, снова накатывает колготки.
— Зачем я вообще что-то делаю? — рассказывает. — Я достаточно образована, чтобы отговорить себя от любой затеи. Чтобы разобрать на части любую фантазию. Объяснить и забыть любую цель. Я такая сообразительная, что могу опровергнуть любую мечту.
Сижу на том же месте, голый и усталый, а экипаж объявляет наше снижение, наше приближение ко внешней области Лос-Анджелеса, потом текущее время и температуру, потом информацию по связанным полётам.
И на какой-то миг мы с этой женщиной стоим молча и прислушиваемся, глядя вверх в никуда.
— Я делаю это — это — потому что мне приятно, — говорит она, застёгивая блузку. — А может — и сама не знаю, зачем таким занимаюсь. Между прочим, за то же самое казнят убийц. Потому что если переступишь раз какие-то границы — то будешь переступать их и дальше.
Спрятав руки за спину, застёгивая змейку на юбке, она продолжает:
— По правде говоря, я на самом деле и не хочу знать, зачем занимаюсь случайным сексом. Просто занимаюсь, и всё, — говорит. — Потому что как изобретёшь для себя хорошую причину — тут же начинаешь урезывать всё под неё.
Она вступает обратно в туфли, взбивает волосы по бокам и просит:
— Пожалуйста, не думай, что это было нечто особенное.
Отпирая дверь, продолжает:
— Расслабься, — говорит. — Когда-нибудь, всё, чем мы только что занимались, покажется тебе так, мелочёвкой.
Высунувшись боком из пассажирского салона, она добавляет:
— Сегодня просто первый раз, когда ты переступил эту обычную черту, — оставляя меня в наготе и одиночестве, напоминает. — Не забудь закрыть за мной дверь, — потом смеётся и говорит. — Если тебе, конечно, теперь захочется её закрывать.
Девушка с конторки уже не хочет кофе.
Не хочет пойти проверить свою машину на стоянке.
Заявляет:
— Если что-то случится с моей машиной — я знаю, кого винить.
А я говорю ей — «шшшшшшшшшш».
Говорю, мне послышалось что-то важное — утечка газа, или ребёнок где-то плачет.
Голос моей мамы, приглушённый и усталый, доносится из интеркома из неизвестно какой комнаты.
Мы прислушиваемся, стоя у конторки в холле Сент-Энтони, а моя мама рассказывает:
— Лозунг для Америки — «Недостаточно Хорошо». Всё всегда у нас недостаточно быстрое. Всё недостаточно большое. Мы вечно недовольны. Мы постоянно совершенствуем…
Девушка с конторки объявляет:
— Не слышу никакой утечки газа.
Тихий, усталый голос говорит:
— Я провела всю свою жизнь, нападая на всё подряд, потому что слишком боялась рискнуть создать что-то…
А девушка с конторки обрубает его. Жмёт на микрофон и произносит:
— Сестру Ремингтон к приёмному столу. Сестру Ремингтон к приёмному столу, немедленно.
Жирного охранника с нагрудным карманом, набитым авторучками.
Но когда она отпускает микрофон, из интеркома снова доносится голос, тихий и шепчущий.
— Вечно всё было недостаточно хорошо, — говорит моя мама. — И вот, под конец моей жизни я осталась ни с чем…
И её голос гаснет, уходя вдаль.
Ничего не осталось. Только белый шум. Помехи.
А теперь она умрёт.
Если не случится чудо.
Охранник вылетает через бронированную дверь, смотрит на девушку за конторкой, спрашивает:
— Ну? И что здесь за ситуация?
И на мониторе, в зернистом чёрно-белом, она показывает на меня, сложившегося пополам от боли в кишках, на меня, держащего в руках свой раздутый живот, и объявляет:
— Он.
Говорит:
— Этому человеку нужно запретить доступ на территорию — начиная с текущего момента.
Как показали в новостях прошлым вечером — я стою ору, размахивая руками перед камерой, Дэнни стоит чуток позади, пристраивая камень в кладку, а Бэт ещё чуть сзади него, разбивает камень в пыль, пытаясь вырубить статую.
По ящику я получился желтушно-жёлтым, сгорбленным от вздутия и веса моих кишок, расползающихся внутри на части. Согнувшись, поднимаю рожу, чтобы смотреть в камеру; моя шея гнётся дугой от головы к воротничку. Шея у меня толщиной в руку, кадык торчит наружу, толстый как локоть. Это было вчера, сразу после работы, поэтому на мне по-прежнему блузкообразная полотняная рубаха из Колонии Дансборо и бриджи. Плюс башмаки с пряжками и галстук — тоже хорошего маловато.
— Братан, — замечает Дэнни, сидя рядом с Бэт в её квартире, когда мы смотрим себя по ящику. — Видон у тебя не особо.
Видон у меня, как у коренастого Тарзана из моего четвёртого шага, согнувшегося у обезьяны с жареными каштанами. Жирный спаситель с потрясной улыбкой. Герой, которому уже нечего скрывать.
По ящику я пытался сделать одно — объяснить всем, что недовольства не было. Пытался убедить людей, что сам же и заварил всю кашу, позвонив в город и рассказав, что живу недалеко, и какой-то псих строит тут без разрешения непонятно что. И стройплощадка несла угрозу детям из окрестностей. И работавший парень не казался особо кайфовым. И это точно была сатанинская церковь.