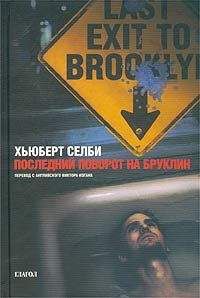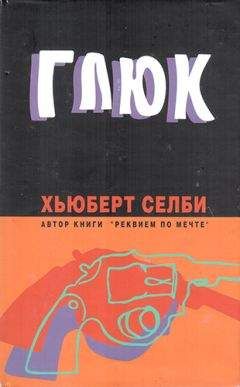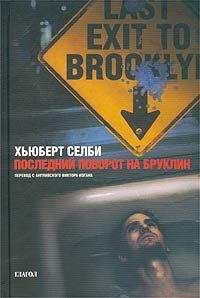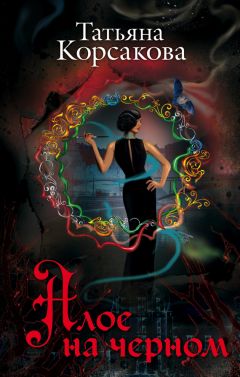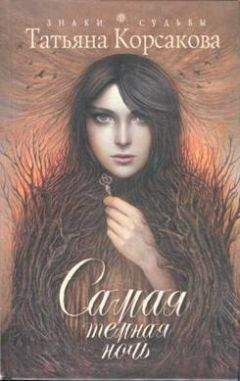В чем дело, Жоржи? Бедной маленькой девочке бо-бо? Она хрипло закричала. Вы меня ранили! Ах вы, уроды поганые, вы меня ранили! С мольбой в глазах она посмотрела на Винни, пытаясь вновь взять себя в руки (действие бензедрина уже совсем кончилось и сменилось паникой), надеясь снискать его сочувствие, глядя на него нежно, как возлюбленная, прощающаяся навсегда, а Винни рассмеялся, подумав, что она очень похожа на собаку, выпрашивающую кость. В чем дело? Ты что, порезалась?
От ярости и страха она едва не потеряла сознание, а все остальные хохотали во всё горло. Она посмотрела на лица, слившиеся в одну сплошную массу, и ей захотелось надавать всем пинков и оплеух, заплевать и исцарапать эти рожи, но когда она попыталась шевельнуться, боль в ноге остановила ее, и она снова прислонилась к косяку, уже полностью ощущая свою ногу и впервые думая о ране. Она задрала штанину до колена, содрогнулась, почувствовав, что штанина пропиталась кровью, и взглянула на рану — кровь еще сочилась, — на пропитавшийся кровью носок и на лужицу крови под ногой, стараясь не обращать внимания на свист и крики: Молодчина, девочка, снимай!
Винни сходил к «Греку», взял у Алекса пузырек йода, вышел и велел Жоржетте ни о чем не волноваться. Я тебя вылечу. Он приподнял ей ногу, залил рану йодом и рассмеялся вместе со всеми, когда Жоржетта закричала и вскочила, схватившись обеими руками за раненую ногу и запрыгав на другой. Они свистели и хлопали в ладоши, а кто-то запел «Танцуй, балерина, танцуй». Жоржетта упала на землю, по-прежнему отчаянно стискивая ногу, и села посреди тротуара, в пятне света, льющегося из забегаловки, — одна нога поджата, другая поднята и согнута в колене, голова опущена между ног — ни дать ни взять клоун, изображающий танцовщицу.
Когда боль немного утихла, Жоржетта встала, вновь допрыгала на одной ноге до ступеньки, села и попросила носовой платок, чтобы перевязать рану. Ты что, спятила? Я не хочу, чтобы ты испачкала мне весь платок. Снова смех. Винни галантно выступил вперед, вытащил из кармана платок и помог ей перевязать ногу. Вот и всё, Жоржи. Все в порядке. Она молча уставилась на кровь. Рана все увеличивалась и увеличивалась; в ноге стремительно начиналось заражение крови; вот оно уже распространилось почти до самого сердца; зловоние гангрены, запах ее гниющей ноги…
Ну ладно, давай скорей. Что? Что ты сказал, Винни? Я говорю, давай бабки, я поймаю тачку, и ты поедешь домой. Мне нельзя домой, Винни. Почему? Дома брат. Ну, и куда же ты поедешь? Не можешь же ты сидеть здесь всю ночь. Поеду в больницу. Там мне, наверно, вылечат ногу, а потом поеду на Верхний Манхэттен к Мэри. Ты что, спятила? В больницу ехать нельзя. Они как увидят твою ногу, сразу захотят узнать, что случилось, а потом опомниться не успеешь, как легавые постучатся ко мне в дверь, и я опять окажусь на нарах. Я ничего им не скажу, Винни. Ты это знаешь. Честное слово. Иди ты в жопу поросячью! Там тебя схватят, сделают какой-нибудь укольчик, и ты заговоришь как миленькая, вспомнишь даже все позабытые фильмы и радиопередачи. Я поймаю тачку и отвезу тебя домой. Не надо, Винни, ну пожалуйста! Я ничего им не скажу. Обещаю. Скажу, что это сделали какие-то незнакомые мальчишки, — крепко сжимая ногу обеими руками, раскачиваясь взад и вперед в неизменном гипнотическом ритме и отчаянно пытаясь не впадать в истерику и не обращать внимания на пульсирующую боль в ноге. Ну пожалуйста! Дома брат. Нельзя мне сейчас домой! Слушай, я не знаю, что сделает твой брат, да и насрать мне на это, зато знаю, что сделаю я, если ты сейчас же не заткнешь свое хлебало.
Он направился на авеню ловить такси, а Жоржетта всё кричала ему вслед, моля и обещая все на свете. Ей не хотелось ссориться с Винни, не хотелось ему разонравиться, не хотелось его раздражать; но ей было известно, что произойдет, когда она придет домой. Мать расплачется и вызовет врача. И даже если брат не найдет бенни (выбросить таблетки она не могла, а для одного заглота их было слишком много), врач все равно догадается, что она что-то принимает, и всё разболтает. Она знала, что они ее разденут и увидят на ней узенькие красные трусики с блестками — как у стриптизерши. Возможно, на косметику брат внимания не обратит (когда увидит ее ногу и всю эту кровищу; и когда мать испугается за нее и велит брату оставить ее в покое), но уж закрывать глаза на трусики и бенни ни за что не станет.
Но больше всего она боялась отнюдь не этого; отнюдь не то, что брат ее отшлепает, вновь вселяло в нее тот страх, от которого она едва не теряла сознание, который заставлял ее вспомнить (правда, ненадолго) о молитве и забыть о запахе гангрены. Это было сознание того, что ей придется несколько дней, а то и неделю, просидеть дома. Доктор велит ей беречь ногу, пока рана не заживет, и мать с братом будут следить за соблюдением указания врача. И она знала, что они не пустят к ней никого из подружек, а у нее нет ничего, кроме бензедрина, который, вероятно, найдут и выбросят. Дома ничего не припрятано. И негде раздобыть. Неделю, а то и больше, сидеть дома на полном голяке. Да я свихнусь! Так долго я не выдержу. Они меня достанут. Достанут. О боже боже боже…
У входа к «Греку» остановилась тачка, Винни вышел, и они с Гарри помогли (силком) Жоржетте сесть на заднее сиденье. Она продолжала упрашивать их, молить. Сказала им, что у нее есть клиент, маклер с Уолл-стрит, что она собирается увидеться с ним в
Жоржетте ни о чем не волноваться. Я тебя вылечу. Он приподнял ей ногу, залил рану йодом и рассмеялся вместе со всеми, когда Жоржетта закричала и вскочила, схватившись обеими руками за раненую ногу и запрыгав на другой. Они свистели и хлопали в ладоши, а кто-то запел «Танцуй, балерина, танцуй». Жоржетта упала на землю, по-прежнему отчаянно стискивая ногу, и села посреди тротуара, в пятне света, льющегося из забегаловки, — одна нога поджата, другая поднята и согнута в колене, голова опущена между ног — ни дать ни взять клоун, изображающий танцовщицу.
Когда боль немного утихла, Жоржетта встала, вновь допрыгала на одной ноге до ступеньки, села и попросила носовой платок, чтобы перевязать рану. Ты что, спятила? Я не хочу, чтобы ты испачкала мне весь платок. Снова смех. Винни галантно выступил вперед, вытащил из кармана платок и помог ей перевязать ногу. Вот и всё, Жоржи. Все в порядке. Она молча уставилась на кровь. Рана все увеличивалась и увеличивалась; в ноге стремительно начиналось заражение крови; вот оно уже распространилось почти до самого сердца; зловоние гангрены, запах ее гниющей ноги…
Ну ладно, давай скорей. Что? Что ты сказал, Винни? Я говорю, давай бабки, я поймаю тачку, и ты поедешь домой. Мне нельзя домой, Винни. Почему? Дома брат. Ну, и куда же ты поедешь? Не можешь же ты сидеть здесь всю ночь. Поеду в больницу. Там мне, наверно, вылечат ногу, а потом поеду на Верхний Манхэттен к Мэри. Ты что, спятила? В больницу ехать нельзя. Они как увидят твою ногу, сразу захотят узнать, что случилось, а потом опомниться не успеешь, как легавые постучатся ко мне в дверь, и я опять окажусь на нарах. Я ничего им не скажу, Винни. Ты это знаешь. Честное слово. Иди ты в жопу поросячью! Там тебя схватят, сделают какой-нибудь укольчик, и ты заговоришь как миленькая, вспомнишь даже все позабытые фильмы и радиопередачи. Я поймаю тачку и отвезу тебя домой. Не надо, Винни, ну пожалуйста! Я ничего им не скажу. Обещаю. Скажу, что это сделали какие-то незнакомые мальчишки, — крепко сжимая ногу обеими руками, раскачиваясь взад и вперед в неизменном гипнотическом ритме и отчаянно пытаясь не впадать в истерику и не обращать внимания на пульсирующую боль в ноге. Ну пожалуйста! Дома брат. Нельзя мне сейчас домой! Слушай, я не знаю, что сделает твой брат, да и насрать мне на это, зато знаю, что сделаю я, если ты сейчас же не заткнешь свое хлебало.
Он направился на авеню ловить такси, а Жоржетта всё кричала ему вслед, моля и обещая все на свете. Ей не хотелось ссориться с Винни, не хотелось ему разонравиться, не хотелось его раздражать; но ей было известно, что произойдет, когда она придет домой. Мать расплачется и вызовет врача. И даже если брат не найдет бенни (выбросить таблетки она не могла, а для одного заглота их было слишком много), врач все равно догадается, что она что-то принимает, и всё разболтает. Она знала, что они ее разденут и увидят на ней узенькие красные трусики с блестками — как у стриптизерши. Возможно, на косметику брат внимания не обратит (когда увидит ее ногу и всю эту кровищу; и когда мать испугается за нее и велит брату оставить ее в покое), но уж закрывать глаза на трусики и бенни ни за что не станет.
Но больше всего она боялась отнюдь не этого; отнюдь не то, что брат ее отшлепает, вновь вселяло в нее тот страх, от которого она едва не теряла сознание, который заставлял ее вспомнить (правда, ненадолго) о молитве и забыть о запахе гангрены. Это было сознание того, что ей придется несколько дней, а то и неделю, просидеть дома. Доктор велит ей беречь ногу, пока рана не заживет, и мать с братом будут следить за соблюдением указания врача. И она знала, что они не пустят к ней никого из подружек, а у нее нет ничего, кроме бензедрина, который, вероятно, найдут и выбросят. Дома ничего не припрятано. И негде раздобыть. Неделю, а то и больше, сидеть дома на полном голяке. Да я свихнусь! Так долго я не выдержу. Они меня достанут. Достанут. О боже боже боже…