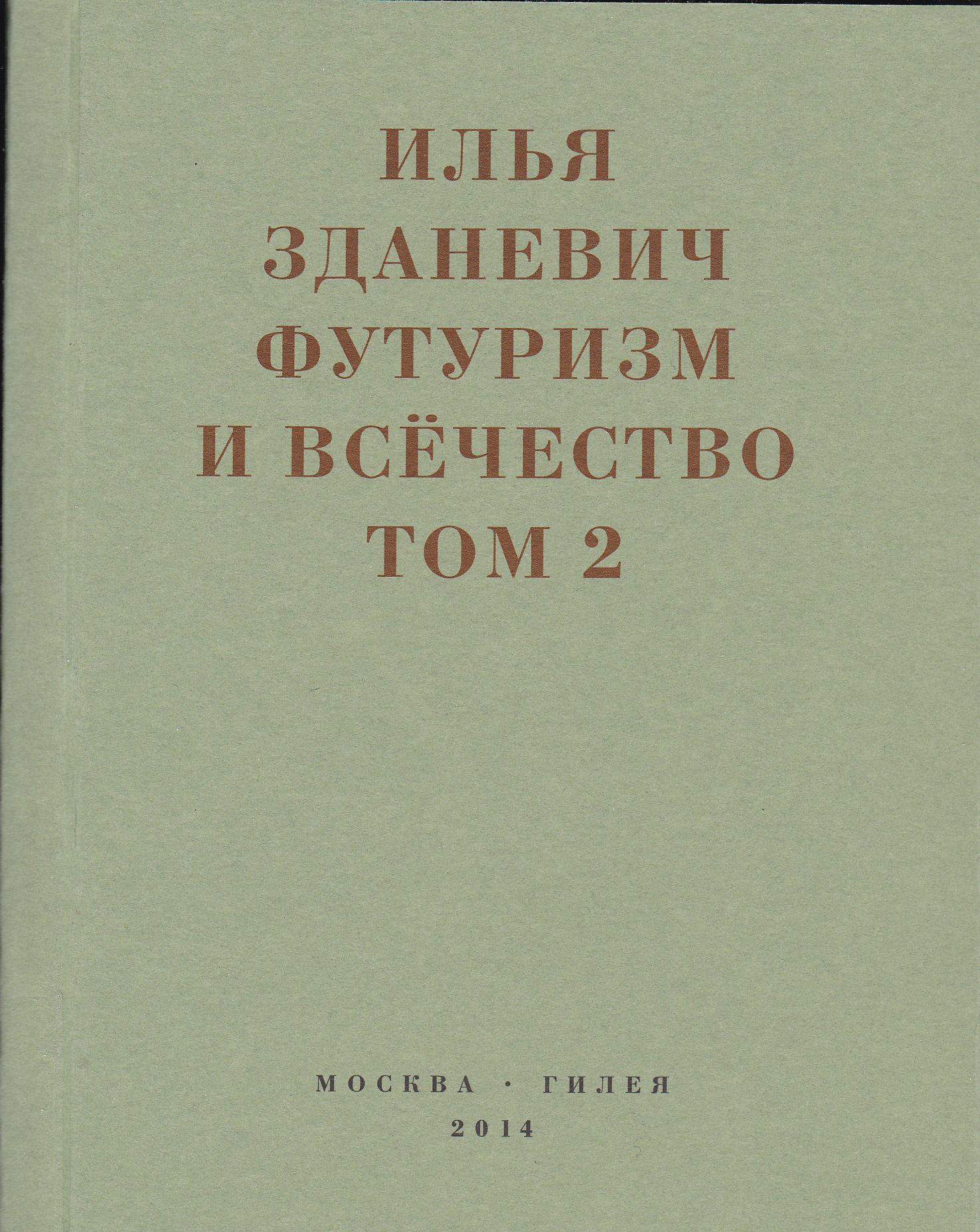ничего не ответил, а обратился к соотечественникам. Они быстро заговорили между собой, восклицая: “Чулха, Чулха”. “Мы его знаем, – отвечал первый, – это плохой человек”. – “Что он делает?” – “Много плохого делает”. – “Но что же такого? Ты его знаешь?” – “Да, я видел его вчера и даже сегодня с грузинами”. – “Да, да, вот, вот. Вы можете мне сказать?” – “Он ввозит в страну оружие”. Лодочники переглянулись. “Нет, – отвечал первый, – они так говорят турецким властям, на деле они вывозят”. – “Куда?” – “Не знаем”. – “Вы же знаете!” – “Почему ты хочешь это знать? Говори тише”. – “Меня это не занимает, куда они вывозят и что в конце концов делают. Скажите, с ним работает такой большой, беловолосый, похожий на русского?” – “Да-да, синий”. (“Еще один, – подумал Ильязд, – как, однако, я глупо веду себя”.) “Прощайте, до скорой встречи”. И расплатившись с лодочниками, он отправился к Айя Софии.
Придя домой, он взял карандаш, бумагу и, чтобы подвести итог своим наблюдениям, нарисовал дерево, в корне которого написал: “Суваров”, потом “Синейшина”, потом зачеркнул “Синейшину” и опять написал “Суваров”. Нет, не все еще известно и не время делать схемы. Уже было ясно, что Суваров, Синейшина, Чулха и многие другие, кого он пока не знал, это одно и тоже, но чего они добивались от Ильязда, Ильязд пока понять не мог. Если бы здесь были какие-нибудь чувства, но чувств никаких здесь не было. Если бы Синейшина его ненавидел, он давно убил бы его, нет, он только негодовал, но потом забывал о своем негодовании, считая Ильязда ничтожеством. Разве не того же мнения держался Суваров, посылая ему в месяц двадцать долларов. И однако к чему хотели они прийти через ничтожество? И кто был здесь зачинщиком? О, невозможность решить вопрос, когда эти люди только и жили провокацией!
Бен Озилио, Хаджи-Баба, они его не провоцировали. “Но что угодно, какие угодно унижения, – повторял Ильязд еще раз, – только не договор, не потеря свободы”. Он знал, что Суваров прав, что Ильязд в действительности им нанят, что он дышит для Суварова, мыслит для Суварова, но так как додуматься, почему это так, Ильязд не мог, то и предпочитал эту воображаемую свободу очевидному, хотя бы и величественному рабству Озилио. Но как понять, в чем дело? Ильязду казалось, что, вероятно, сами авторы всей этой истории пока не знают, чего они хотят, чем кончатся эти страницы, и только поэтому он и они сами были обречены некоторое время на совместное плавание, пока обнаружится неизвестная пока земля. “Я нужен Суварову, – повторял Ильязд, – доказательство – доллары. Я нужен Синейшине, доказательство, что он еще не убил меня. И, пожалуй, важно даже узнать, почему я им нужен, а не прозевать момента, после которого я не буду нужен тому или другому, так как смерть наступит немедленно”.
История с Чулхой больше всего угнетала его. Значит, нельзя больше ни выйти, ни предпринять что-либо, чтобы не натолкнуться на подосланных этой бандой людей. “Надо быть настороже, Ильязд, надо быть настороже”. И он сел за стол писать письмо родственникам во Францию10, прося поскорее устроить визу, подготовляя возможность побега.
Эта идея побега занимала его все последующие дни до такой степени, что, убедившись в необходимости бежать, он послал еще два письма в Париж, но, отправив их, упрекнул себя в малодушии и в тысяче прочих пороков. Бежать, не попробовав сопротивляться, не разоблачив врага. Однако эти бодрящие слова, которые он повторял самому себе, звучали фальшиво. Что за допотопное представление о борьбе, когда противник пользуется черт знает какими новейшими способами, газообразный наступает неведомо когда, как и откуда! Не самое правильное ли поведение бежать, избавив их от своего, нужного им присутствия, и тем разрушить их планы?
Но не правильнее испытать их? Ильязд вырвал из тетради бумагу и написал одинаковые письма Синейшине и Суварову, что, мол, должен срочно покинуть Турцию и жалеет, что не может лично проститься с ними. Посмотрим, как они будут реагировать на это. Но через минуту он передумал. Для чего давать им в руки лишнее оружие? Если уже уезжать, то лучше уехать просто, ничего им не сообщив. Однако не преувеличивает он свое значение, не любезность ли просто со стороны богатого Суварова эти жалкие пятьдесят долларов, а поведение Синейшины – благодарность за любезность Ильязда на пароходе? Нет, положительно, я начинаю сходить с ума в этом Константинополе. И он разорвал написанные письма.
Утром ему показалось, что он окончательно успокоился. Вопрос об отъезде потерял остроту. Он спустился к Сиркеджи, взял у одного из лазов лодку, но оставил его на берегу, а сам отправился вдоль берега в море, решив поупражняться несколько часов в гребле.
“Да-да, надо переменить пока что образ жизни, – повторял он. – Что за нищая, действительно, жизнь, как говорит Синейшина. А тут еще соблазны бен Озилио стать мудрецом. Я уже забыл, что когда-то умел бегать, подниматься на девственные вершины, плавать и не слезать целыми днями с лошади. А теперь <i нрзб.>, опустился, в этой пылище, со всей этой архитектурой и головоломками. Ах, жить и умереть не рассуждая!”
Стоило ему пройти стрелку, и зыбь сделалась достаточно сильной. Но он боролся с волнами радостно, только что оправившийся от тяжелой болезни. Он еще не стар, эти руки, эти ноги на что-то еще годятся, его тело на что-то годится. Он задыхался от прилива чувств, смысла которых он не понимал. Нет, архитектура – это хорошо, а природа лучше, камень – материал благородный, а цветок еще благороднее. Величие – это хорошо, но вдохновение лучше. Соленые воды, взвихренные облака, ветер. Какое недоразумение – эта пытливость, мешающая ему жить. Синейшина прав, Синейшина прав, надо жить просто, не хитрствуя, и жить сегодняшним днем, а не всем этим хламом. Ему на минуту показалось, что, быть может, это тоже провокация. Но нет, это шло не из головы, а отсюда – из волн, из этой огромной влаги, безумной поверхности, которая трепетала в нем, перекатываясь в глубине и на поверхности и подымая чудовищные возможности на уровень дня.
Море. Оно вновь исцеляло его в эту минуту, как тогда, во время бегства из отечества. Это земля унижает и опошляет. Недостаточно жить на берегу моря, надо жить на море, в море, под морем, тонуть ежедневно в глубине и подыматься наружу, быть качаемым, окруженным, чувствовать свой удельный вес ниже окружающего, взлетать, возноситься, плавать, плавать, плавать. Раздевшись, он прыгнул в воду, нырял под лодкой, раскрывал глаза в глубине, пока наконец,