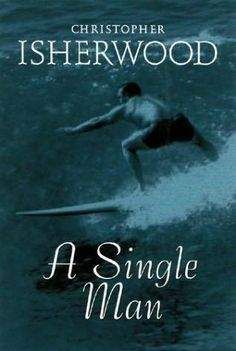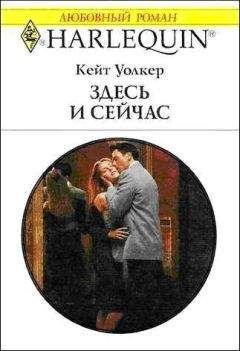И Александр Монг ожидаемо замутил. Конечно, он знал, что делает, не дурак. Может, это часть его философии абстрактного художника: воспринимать все переносное как по-детски несносное. Европеец не сдержался бы, но Александр, с милой китайской улыбочкой, начал:
— Тут об одном богатом парне, который ревнует, потому что боится, что слишком стар для той девочки, и ему кажется, что тот молодой за ней ухлестывает, но на деле у того никаких шансов, потому что она уже снюхалась с доктором. Так что богатый зря пристрелил молодого, хотя доктор их вроде прикрыл, и все отправились в Англию искать того графа, который забавлялся в подвале с той цыпочкой…
Гомерический хохот.
С улыбкой принимая эстафету, Джордж спрашивает:
— Вы забыли мистеров Пордиджа с Проптером — так что они?
— Пордидж? Ах да, это который узнал, что граф ел ту чертову рыбу…
— Карпа.
— Точно. А Проптер… — Александр ухмыляется, слегка паясничая, почесывает в затылке, — Извините, Сэр. Правда, я до полвторого не спал, пытаясь понять. Да! Классно, но я не въехал в эту хрень.
Опять хохот. Александр сделал свое дело. Подал филистимлянам пример, молодец. И языки развязались, и процесс пошел.
И вот некоторые из их достижений:
Если мистер Проптер заявляет, что субъект не существует, значит, он не верит в человеческую природу.
Этот роман — бессмысленный абстрактный мистицизм. Скажите, зачем нам вообще эта вечность?
Роман умен, но циничен. Хаксли следовало бы обратить внимание на положительные человеческие эмоции.
Роман — чудесная духовная проповедь. В нем учат, что не следует совать свой нос в мистическое. Не следует шутить с вечностью.
Хаксли удивительный сумасброд. Он хочет извести человечество и оставить мир животным и духам.
Заявлять, что время есть зло, потому что зло есть во времени — все равно, что считать, что океан это рыба, потому что рыба в океане.
Мистер Проптер не занимается сексом. И потому это неубедительный персонаж.
А у мистера Пордиджа сексуальная жизнь неубедительная.
Мистер Проптер сторонник джефферсоновской демократии, анархист, большевик, готовый член Общества Джона Берча.
Мистер Проптер избегает действительности. Почитайте его разговор с Питом о войне в Испании. Пит был нормальным парнем, пока Проптер не стал капать ему на мозги, так что тот совсем свихнулся на вере.
Хаксли прекрасно понимает женщин. Розовый скутер Вирджинии — отличный тому пример.
И так далее, и тому подобное… Джордж стоит, улыбаясь, фактически молча, не мешая им развлекаться в свое удовольствие. Он здесь при романе, как служитель при карнавальном балагане, подзуживая толпу лупить по мишеням исключительно ради удовольствия. Однако некоторые основные правила должны соблюдаться. Если заходит речь о влиянии лизергиновой кислоты или мескалина, с намеком на серьезное пристрастие Хаксли к наркотикам, Джордж лаконично это опровергает. Попытки отойти от романа, и связать одну известную даму с убийством Джо Стойтом Пита, Джордж решительно пресекает; эти домыслы опровергнуты еще в тридцатых.
И наконец Джордж слышит вопрос, которого ждал. Спрашивает, конечно, Майрон Херш, неутомимый мучитель неевреев.
— Сэр, на странице семьдесят девятой мистер Проптер говорит, что глупейшие строки в Библии — „Возненавидели Меня напрасно“. Он считает, что нацисты были правы в ненависти к евреям? Значит, мистер Хаксли антисемит?
Джордж делает глубокий вдох.
— Нет, — мягко отвечает он.
После обдуманной паузы — класс взбудоражен тупостью Майрона — повторяет громко и жестко:
— Нет, мистер Хаксли не антисемит. Нацисты не имели права ненавидеть евреев. Но их ненависть к евреям не беспричинна. Ненависть всегда имеет причины…
Но давайте забудем на время о евреях, хорошо? Независимо от отношения к ним, говорить на эту тему объективно пока невозможно. Как и ближайшие двадцать лет, вероятно. Поэтому поговорим об этом относительно иного меньшинства, какого хотите, но небольшого, не имеющего организованного комитета для своей защиты…
Пристальный взгляд Джорджа говорит Уолли Брайанту, я на вашей стороне, сестра-по-братству в меньшинстве. Лицо Уолли пухлое, землистого цвета, попытки пригладить буйно вьющиеся волосы, отполировать ногти и придать форму бровям, вопреки усилиям, лишь добавляют ему непривлекательности. Ему наверняка ясен смысл взглядов Джорджа, это его смущает. И напрасно! Джордж намерен преподать ему урок, который тот не забудет. Он покажет изнутри его собственную робкую душу. Может, тогда у него хватит смелости забыть о маникюре и взглянуть правде в глаза…
— Например, люди с веснушками не воспринимаются как меньшинство теми, у кого веснушек нет. В интересующем нас смысле. А почему? Потому что меньшинство только тогда воспринимается как таковое, когда оно представляет угрозу большинству — реальную или мнимую. Но угроза никогда полностью не вымышленная. Кто-нибудь не согласен? Если это так, спросите себя, что станет делать то или иное меньшинство, если наутро оно окажется в большинстве? Вы меня понимаете? Если нет, подумайте над этим.
— Ладно, возьмем либералов, в том числе и присутствующих, полагаю. Уверен, они скажут: меньшинства это люди, такие, как мы. Конечно, меньшинства люди — люди, не ангелы. Конечно, как мы, но не совсем, в том и беда экзальтированного либерального ума, обманывающего даже себя вплоть до отрицания различий между негром и шведом.
(Ну почему он не в состоянии прямо сказать — между Эстель Оксфорд и Бадди Соренсеном? Может быть потому, что тогда последовал бы взрыв всеобщего веселья, всеобщие объятья, и царствие небесное тотчас же снизошло бы на аудиторию номер 278. Или не снизошло.)
— Поэтому лучше признать, что меньшинства есть люди, которые от нас отличаются взглядами, поведением, и имеют недостатки, которых мы лишены. И потому они сами, их поведение и недостатки могут нам не нравиться. И гораздо лучше, если мы признаем это, нежели запятнаем свои взгляды псевдо-либеральной сентиментальностью. Честное признание — это выпускной клапан, защищающий нас от искушения подвергать их гонениям. Я знаю, это немодная нынче теория… Принято верить в то, что если проблему достаточно долго игнорировать, она исчезнет…
— Так о чем я? Ах, да… Положим, меньшинство преследуется — не так важно, по политическим, экономическим или физиологическим причинам. Какие-либо всегда найдутся, неважно, насколько ложные — я в этом убежден. И конечно сами преследования всегда есть зло; надеюсь, вы согласны с этим… Но к сожалению, есть опасность впасть в иную ересь. Если преследовать их грешно, значит, скажет либерал, это меньшинство безгрешно. Это ли не абсурд? Искоренение зла преследованием еще большим злом? Разве все христианские мученики на аренах были святыми?
— И еще одно. Меньшинства склонны к своего рода агрессивности, которая провоцирует большинство. Их ненависть к большинству, поверьте, не без причины. Они даже ненавидят другие меньшинства, потому что и здесь есть некоторая конкуренция — каждое считает свои страдания наибольшими, а пороки наихудшими. И чем больше ненавидят, тем больше их преследуют, тем нетерпимее они становятся! А вы думаете, это любовь подогревает в людях дурные свойства? Представьте, что нет! Так почему же ненависть к ним улучшит дело? Когда тебя преследуют, ты ненавидишь людей, виновных в этом, ты живешь в мире ненависти. И не узнаешь любовь, когда ее встретишь. Даже любовь у тебя на подозрении! Вдруг за этим что-то кроется, какие-то мотивы, какой-то обман…
К этому моменту Джордж и сам не знает, что доказал, что опроверг, на чьей он стороне, если вообще на чей-то, он вообще толком не знает, о чем говорит. Тем не менее, все рассуждения вырывались у него изо рта с неоспоримой искренностью. Он верил любому их них беспрекословно, разумно оно или неразумно. Он управлялся с ними как с хлыстом, не давая спать Уолли, и Эстель, и Майрону. Имеющий уши да слышит…
Но Уолли глядит все так же смущенно — он не выпорот и не разбужен. Он даже не смотрит на него; он смотрит в какую-то точку выше него, где-то у него за спиной… И, обежав взглядом комнату, споткнувшись на полуслове и потеряв нить, Джордж видит, что все пары глаз глядят туда же — на эти чертовы часы. Незачем оборачиваться, и так ясно, что его время вышло. Резко прерывая урок, он говорит им:
— Продолжим об этом в понедельник.
Все сразу встают, за болтовней собирая свои книжки.
Ну а чего он ожидал? Большинству из них минут через десять пора быть в каком-нибудь другом месте. Все же Джордж раздражен. Давно он не позволял себе так увлекаться, позабыв о времени и месте. Как это унизительно! Вздорный старый проф, бубнит свое, не замечая ни часов, ни вздохов класса — и в который раз! На минуту, пока они разбегаются, Джордж упивается ненавистью к ним, к их одноклеточному первобытному безразличию. Он просит одну монетку, протягивая им бриллиант, а они пожимают плечами и отворачиваются с усмешкой, думая про себя — чокнутый старый торгаш.