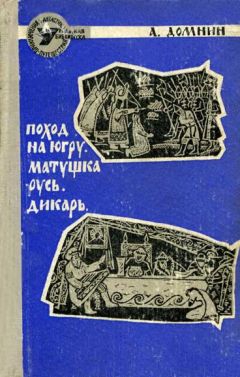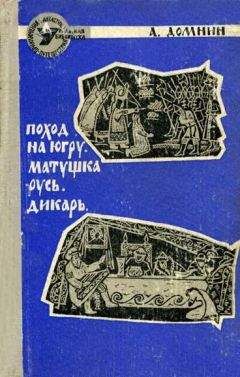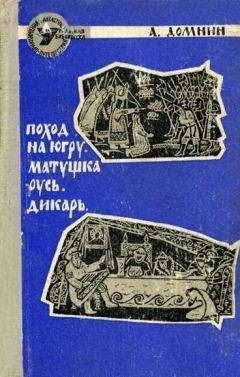В покои боярина Вяхиря привели человека с желтым лицом, в одежде из белых шкурок маленьких тюленей. Он был худ и слаб, только глаза цвета спелой сливы были горячи и полны жизни.
Близ конца земли, где вливается Двина в полунощное море, в жилище бедного охотника-суоми нашли его боярские люди, ходившие за данью. И узнали в нем Мухмедку-персианина.
Много весен назад приплыл бесталанный купец с южными горячими глазами на немецкой крутобокой ладье. И прижился в Новгороде как свой.
Бывало, что надолго исчезал. И опять возвращался то в пышной свите булгарских послов, разодетый в красные мягкие сапожки и длиннополый плащ из лилового бархата, то стриженый под гречанина, в одной нательной рубашонке, с острыми от худобы коленками и локтями. Торговал всякой всячиной, наживал казну и снова становился гол.
Однажды ушел с вольными ушкуйниками на пяти ладьях по хмурой Онеге. Мыслили ушкуйники плыть полунощным морем дальше Печоры и Каменного пояса, где не был никто из людей. Ушли, и не стало от них вестей.
Боярин приказал принести для хворого подушки и всю ночь пытал его о виденном.
В покоях застоялся запах зимы и пересохшего мха.
Чадили светильники, и на стенах колыхались тени.
Сказал боярину непутевый торгаш:
— Телу надобна пища, чтобы сохранять силу, нужна пища глазам, чтобы хранили они огонь жизни и не стали злыми и тусклыми, как у запечной мыши. Я прожил десять жизней, и все, что видел и знаю, уснет со мной. Только одно я скажу тебе — чего не может вместить мое сердце, изведавшее сверх меры жестокое и ужасное.
Персианин прикрыл рукою воспаленные веки. Он лежал на скамье на подушках и шумно со стоном дышал.
— Слушай, боярин, слушай. В море Сумрака, прозванном греками Медвежьим, когда ветер исполосовал наши паруса, вспыхнул над нами цветной небесный огонь и пошли к берегу льды, высотой в три терема. Наша ладья дольше других уходила в разводья, пока ей не раздавило корму.
Я один добрался до берега. Я брел по земле, где много воды, а белый мох с красными цветами густ и плотен, как зимняя шкура зверя. С головы моей ушли волосы, а зубы я выплюнул, словно скорлупки лесного ореха. Я добрался до Каменного пояса. Как? Всюду на земле живут люди, и они примут тебя, если не тень меча, а протянутую руку увидят перед своей дверью. Они посадят тебя к очагу и дадут строганые кусочки мороженой рыбы и парное мясо оленя — все, что едят сами.
Слушай, боярин, слушай. Я был там, где не ступала нога новгородца, на горе, похожей на уши крутолобой рыси, где скалы изрисованы темной охрой. У тебя бы лопнули там глаза от жадности и высохла кровь от бессилия. Ты бы остался лежать там скелетом вместе с костями белых коней и сохатых, которых югры принесли в жертву своему богу.
В пещере, где воют камни при звуке голоса, я видел безносую статую из желтого золота с монетами вместо глаз. Она была увешена серебряными ожерельями и поясами, как юродивый веригами.
Ты знаешь, боярин, это было серебро моих предков. Много серебра. Курганы блюд и курков с вычеканенными на них лицами восточных царей, с грозными фигурами зверей и грифонов. Курганы монет и украшений, смешанные с землей и костями белых коней и сохатых, принесенных в жертву югорскому богу.
С позолоченной чаши смотрели на меня тусклые глаза парфянского царя Ардашира. Он жил в столетье, с которого считают новое время христиане. И может быть, он пил из этой чаши пахучее солнечное вино.
Я плакал. Ты не поймешь этого, боярин. Я плакал потому, что искусные изделия моих предков, мастеров Хоросана, были свалены у ног чужого безносого бога с монетами вместо глаз. Этого не могло вместить мое сердце.
Вы, новгородцы, ведете счет дней от Гостомысла и не знаете, что было прежде вас. Было на Востоке в начале новых столетий могучее царство на месте старой Парфии. Правили им персы, прозванные сассанидами. Если бы на их пир пришел весь Новгород — все равно гости ели и пили бы только из драгоценной посуды. Но явился среди арабов человек по имени Магомет, и его назвали пророком. Он сказал: «Рай находится под тенью мечей», и арабы подняли мечи войны. Великой кровью заставили весь Восток склониться под их знамя и принять новую веру — ислам.
Ислам запрещал держать в доме вещь, на которой был рисован человек или зверь. Это стало называться идолопоклонством.
И тогда густо потекло серебро старой хоросанской чеканки во все дальние земли — на Волгу к хазарам, на Каму к булгарам и еще дальше — по Серебряной реке — Нуркат[1] — на Каменный пояс. В страну, где белки идут дождем, а соболя скачут черной метелью. Потекло в обмен на драгоценные шкурки соболя, бобра и рыси. Югра, почитавшая светлый металл, платила за него горами мехов, не зная, что за серебро платит золотом.
И никто не ведает, какие сокровища моих предков скопились у Каменного пояса.
Нет, я ничего не взял из этих сокровищ. Я повернулся и тихо ушел в тайгу. Ибо чужеземец, увидевший лицо богини, не должен оставаться живым. Таков закон Югры.
Для тебя богатство то, что ты держишь в руках. Для меня — то, что узнали глаза и уши. Но не все может вместить сердце.
Ты, боярин, похож сейчас на голодную росомаху. Готов сразу ринуться по следу. Ты пойдешь на Югру и разграбишь гору, похожую на уши крутолобой рыси. Но мне теперь все равно. Я рассказал тебе то, что не могло вместить мое сердце, пресыщенное жестоким и ужасным… Бесталанный торгаш Мухмедка-персианин не вышел из боярских покоев. Челядинцы шептались, будто он поспешил отойти в другой мир. Боярин Вяхирь велел позвать к себе холопа своего Савку, заперся с ним в покоях.
…Был год 1193-й. В тот год снаряжал новгородский воевода Ядрей дружину. В дальние земли на Югру.
Непутевому Якову, сыну кривого Прокши, попала вожжа под хвост. Потому ли, что остался не у дел и был искупан в луже веселой новгородской вольницей. Или другая была на то причина.
Потребовал он у жены квасу и выплеснул его за порог, швырнул сапогом в кота, дремавшего на лежанке, и остриг полбороды, смотрясь в начищенный медный поднос.
— Опять приключилось что? — робко спросила Малуша. У нее было доброе лицо в морщинах с родинкой на кончике носа.
Яков погладил себя по животу, вдруг хлопнул по нему ладонью и захохотал:
— Глянь, отъелся. Как надутая лягушка! А рожа, смотри, рожа какая! Словно клюквенным соком налита. Надави и брызнет. Хоть в посадники с такой рожей просись.
Он хохотал долго, охлопывая себя, будто выбивал пыль. Потом вздохнул, как при боли, и пробасил:
— Помнишь, как выкрал тебя из батиной ладьи. Ни единая душа не заметила.
— Опять уйдешь? — устало спросила Малуша. Она ссутулилась и бессильно опустила руки.
По молодости гулял Яков на Ладоге с разбойным станом, потрошил купцов проезжих. Был он тогда худощав и смугл, носил в ухе золотую серьгу-полумесяц. Привел однажды в стан перепуганную девицу с родинкой на кончике носа. И венчался с ней под волчий вой и шум сосновый.
А после торговал товарами скупого тестюшки в разных землях, пока не проторговался. Стал сотником и хаживал в воеводской дружине на Чудь белоглазую, в Емь и Карелу. А Малуша только и знала, что встречать и собирать его в дорогу и тосковать в одиночку долгие зимы.
На склоне лет пришел было в дом покой. Проворовался поп Олфима из церкви Прасковьи-Пятницы в Славянском конце Новгорода. Ремесленный люд и купцы растаскали его двор по бревнышку, а самого завязали в мешок и оставили на колокольне. И на малом вече возле храма назвали новым попом Якова — он и в грамоте искусен, и на руку без охулки.
Яков облачил огромное тело в рясу и принял сан. Прихожане сначала над ним похохатывали. Потом терпели. Кому придется по нраву, если на проповедях у него пересмешки вместо благолепия и торжественности. А исповедовал он так, будто дознание вел: все расскажи — что, почему и как.
И лопнуло терпение у прихожан, когда однажды во время крестин приковылял в церковь молодой медведь в красной рубахе, сел у царских врат и стал отчаянно чесать за ухом. Медведя Яков купил у прохожего скомороха прошлым летом.
Крику и визгу было в церкви! Успел отец Яков затащить мишку в алтарь и вытолкнуть в окно. Медведь убежал, а Якова изловили. Изрядно намяли бока, искупали в луже и прогнали с миром.
Остался он при сане и без прихода. Затосковал.
— Чуешь? — спросил он Малушу. — Плесенью в доме пахнет.
И втянул воздух широкими ноздрями.
— Окстись, все двери настежь.
— А я говорю, пахнет.
— Пахнет, пахнет, — согласилась жена. — Что, в путь готовить? И куда?
— Не спеши, — отстранил ее Яков, маленькую, сутулую, безучастную.