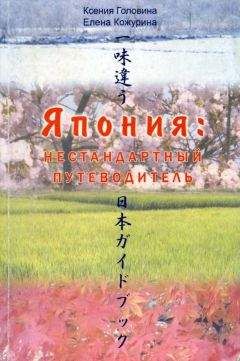Наталья Головина
Возвращение
Глава первая
В январе в пути
Было так. Семь троек провожали возки Александра Герцена до первой станции петербургского тракта. У невеликого здания станции сани со свирепым скрежетом полозьев по унавоженному насту остановились. Смотритель в шинели внакидку выглянул звать приезжих в гостевую половину и узнать у них, не требуется ли чего.
Его просили поставить самовар и сменить лошадей в двух передних возках, обшитых для дальней дороги изнутри мехом и изрядно груженных. Приезжие заполнили обе комнаты трактира, согрелись чаем. А после поворотили от лишних глаз в сторону от тракта, на заледенелый и сбитый след крестьянских пошевней, что вел к лесу на горизонте. Должно быть, неподалеку, в Вырубове, крестьяне ставили церковь. Задувало со снегом…
«Экие ведь какие», — удивленно заключил Черногрязский смотритель, прикрывая за собой дверь в ямскую избу с угарным теплом.
Прямо в поле встали. Ветер отдувал полы меховых шинелей. Выехали девятнадцатого января 1847 года. Погода напоследок была сурова. Казалось, начинался буран.
Николай Христофорович Кетчер, особенно сиротливый сейчас, в минуты расставания, в своем верблюжьего цвета, беспечном среди зимы легком рединготе, подавал руку дамам. Проследив, чтобы одной из первых была спущена из санок Серафима Ивановна, и не им самим, пропустил для этого впереди себя галантного Евгения Корша. Серафима-воробышек, сирота из раскольничьего скита, воспитанница Кетчера и его невенчаная супруга, порхнула со ступенек саней, подавши Евгению руку щепотью и насупившись — затем выскажет Николаю Христофоровичу, что на прочих дамах шубы были не в пример лучше.
Герценов провожали ближайшие друзья. Но не было среди них того, кого сейчас больше всего хотел бы видеть Александр: был нешуточно болен и остался на зиму в своей пензенской деревне Николай Огарев. С ним попрощались в письмах, веря, что встретятся (сталось — на девять лет!).
Другие дорогие рядом. Со всегдашним удивленным и как бы бранчливым выражением на уже постаревшем лице пожизненного младенца — Кетчер. Словно раздумал отпускать и бубнит обиженно: «Вот посмотришь теперь, где там в Париже раки зимуют…» Слегка угрюмый на морозе, пританцовывает, поднимая мефистофельскую бровь, ироничный книжник Корш. Он как бы, напротив, не верит в отъезд надолго и считает сегодняшнее прощание несерьезным — основания: Герцен с Натали не выдержат без московского кружка и полугода! С почти нестерпимой печалью смотрит на отъезжающих Грановский. Степенно и грустно исполняют обряд прощания историк Кавелин, прозаик Мельгунов и автор заметок о путешествии по Европе, небезызвестный критик Боткин. Здесь же сестры, кузены и прочие родственники герценовских друзей.
Провожает Александра с семьей и старший его друг — Михаил Семенович Щепкин, порывистый, тучный, со взором, затуманенным слезой, актерище милостью божьей, верное и нестареющее сердце… (С ним одним, да еще с Константином Кавелиным, увидится Александр спустя годы за границей.)
Натали была умилена числом провожающих, глаза ее ожили, и с лихорадочностью нервной экзальтации (когда близко слезы), возникшей у нее в пору ее болезней и следовавших одна за другой детских смертей в их семье, она повторяла, когда лошади наконец тронули и вереница саней отъехала от дома в Сивцевом Вражке: «Хорошо уезжать, Александр! И — чувствую — как радостно будет возвратиться!» Улыбалась сейчас, когда остановились в снежном поле.
Раздали бокалы.
«Натали, сударыня, разрешите вам налить! Девицы Боткины, Мельгунов, теснее! Прошу — пуншу…»
Восьмилетний Саша-младший, проснувшись, выбрался из возка и тоже стал требовать «пунштику».
Тоненькая и гибкая, даже в пышном своем меховом бурнусе, Лиза — жена Грановского — потирала замерзшие пальцы, прежде чем принять в них бокал… Запомнить их всех! Затем Тимофей дул ей на руки. Они с Грановским были похожи на брата и сестру своею тихой, как бы даже безличной нежностью.
«…Пожить, пока бог терпит». — «Да кабы бог. Николай Павлович, самодержцы, лично путешественников помнят и назад затребуют».
Напоследок сдвинули бокалы и обнялись. Закружилась морозная пыль за возками.
Ехать, ехать дальше, скорее! Оставляя за спиной столько недоброго и унося свет прощания.
На пограничном кордоне недолго листали паспорты. Кормилица, красивая и пышная Татьяна, вновь и вновь поправляла напоследок медвежью полость на тепло укутанных малышах — Тате и Коле. Наконец она сошла. Вернется в Москву на почтовых.
Пожилой солдат поднял неимоверной тяжести пограничный шлагбаум.
Герцен подумал: с каким же трудом были получены заграничные паспорта — после года отчаяния и хлопот по инстанциям и после двух личных отказов императора Николая I. Было слегка обидно и смешно от мимолетности досмотра. Россия-матушка! И сильна и уязвима тем, что на низах своя власть, без которой под давящим сверху спудом и жизнь была бы невозможна… Незатейливое любопытство человека к человеку да патриархальное небрежение-почтение к писаному, без коего и так видно, что барин с семейством едут, и не ехали бы, если б положено не было… Казачий капитан козырнул, возки поехали, и солдат закрыл шлагбаум.
Но тут как раз происшествие с паспортом.
Прусский досматривающий на другой станции не в пример тщательно перечел путешественников: господин Герцен с матерью и супругой, при них трое детей и их воспитательница Мария Эрн. И сказал, что одного паспорта не хватает!
Пересчитали снова: нет документов господина Герцена.
У Александра стучало в висках… Пока поворотили один возок и он поскакал обратно, к русскому посту. Где искать, если на беду окажется, что выронили в поле и замело поземкой? Его догнал тот же прусский офицер верхом: вот паспорт, один в другой заложили…
И долго потом билось в мозгу. Вспоминалось по ростепельным прибалтийским дорогам…
Если бы сейчас им возвратиться в невскую столицу и заново хлопотать о бумагах в III Отделении, не иначе тому же с настороженными и выверенными манерами и смышленостью жестокого и опасного зверя, показно благодушному «дядюшке-жандарму» Дубельту пришло бы на ум такое соображение: как это они отправились на воды, не дождавшись весны? Ехали они не куда-то, а подальше, хотя бы на время — прочь…
Герцену подумалось потом насмешливо и горько, что задолго до их недавнего знакомства с ласковым главой императорского сыска пересекались, а если вспомнить молодые годы Дубельта… шли едва ли не параллельно их пути. Был либералом и масоном и слегка пострадал от доноса в пору следствия по делу четырнадцатого декабря Леонтий Дубельт, когда-то боевой офицер под Бородином, а затем — полковник в отдаленных бессарабских и малороссийских гарнизонах. Вольнодумство его выражалось в том, что в его Оскольском полку меньше секли, и, покуда до рубежа 1821 года предвкушение реформ и горячее мечтательство в петербургских и южных гостиных было едва ли всеобщим хорошим тоном, он слыл одним из либералов.
Доносы пресекли карьеру. Благо еще, не последовало новых. Дубельт не богат. Что у него далее? Прозябание захолустным помещиком. А как же жажда деятельности и привычная уже власть? Важно наклониться над бездной — да и вовремя отпрянуть. А вот и желаемая внутренне отговорка: вновь создаваемое в двадцать шестом году для закрепления «победы над пятью» графом Бенкендорфом III Отделение будет значиться не тайной когортой шпионов, как это поставлено за границей, а освящено принадлежностью к канцелярии е. в. и служением в нем «лучших людей».
Поверх честолюбия и опасливых уговоров себя: что-де всякое дело могут облагородить порядочные люди, они-то в нем и нужны, Дубельт, пожалуй что, шел с желанием благих плодов. Потому что спустя десяток лет, полностью вросши в недра III Отделения, став его главой, Леонтий Дубельт был смутен и непривычно для российских департаментов вежлив и, поговаривали, подчиненным ему мелким соглядатаям любил иногда выдавать вознаграждение в тридцать рублей…
Леонтий Васильевич исповедовал необходимость «добрых внушений» прежде карательных действий. Он — один из самых просвещенных чиновников своего ведомства. И впоследствии стал также членом цензурного комитета, с тем чтобы растить отечественную литературу и оберегать своим остережением «истинное просвещение» отложных шагов и взглядов. Правда, его подопечные скоро бывали дотравлены и сходили со сцены: Чаадаев и Полежаев, Веневитинов, надломленный Гоголь, Пушкин и Лермонтов, Кольцов… — Герцен усмехнулся.
В его собственной жизни четырнадцатое декабря 1825 года пришлось на едва минувшие в ту пору ему, московскому баричу, незаконному сыну родовитого помещика Яковлева, тринадцать лет. Стало пробуждением от детских снов, горечью и клятвой их с Ником идти тем же путем. А «отпрянувший» Дубельт вплотную приблизился к их судьбам, когда семнадцатилетними студентами, различая теперь всякую вкрадчивую и кровавую ложь, они величали возведенного на престол революцией тридцатого года французского короля Луи-Филиппа «Леонтием Васильевичем».