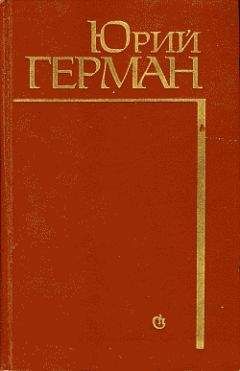Юрий Павлович Герман
Начало
Хирургом должен быть взрослый.
Цельз
Веселым апрельским утром 1827 года отчаянный бруссэист и знаменитый московский медик Матвей Яковлевич Мудров произнес своим студентам нежданно-негаданно речь о пользе заграничных путешествий. Во рту у Мудрова была каша, красноречием он никогда особым не блистал, о заграничных путешествиях помнил немного и довольно смутно, – что вот, дескать, у немцев вместо одеял пуховики – уж эти немцы, или что есть на свете такая штука – Альпы – превосходнейшая штука, или что во Франции бордо стоит сущие гроши, и надобно, коли попал во Францию, пить только бордо – полезно и здорово.
Морща густые и длинные, лезущие в глаза старческие брови, Мудров неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой – стучал по кафедре твердым стариковским негнущимся пальцем и хвалил заграницу до тех пор, пока не окончилось время лекции – только тогда он объяснил, для чего были все эти пуховики и Альпы.
– Согласно проекту академика Паррота, – сказал Мудров, – утвержденному его императорским величеством, те из вас, кто пожелает, могут отправиться для усовершенствования в знаниях за границу.
Пожевал беззубым ртом, вздохнул и начал слезать с кафедры.
Студенты молчали. Никто ни о чем не спрашивал. Мудров был глуховат и никогда не знал большего, чем говорил. Да и как-то все это было странно, по всей вероятности не без подвоха: отправят, а потом закабалят, или просто помрешь за морем. С кого потом спрашивать?
Вторая лекция была тоже Мудрова, но посвящена она была не науке, а расправе со студентом из семинаристов Перепоясовым, который давеча напился и надебоширил. За это Мудров велел ему читать «Преблагий господи», а потом класть земные поклоны перед всеми студентами, сам же тихо задремал в своем профессорском кресле, на солнышке, откинув назад голову и открыв рот с беззубыми, розовыми, как у грудного младенца, деснами.
Отбубнив молитву положенное число раз, Перепоясов от скуки стал молитвенным же голосом рассказывать разные вольные истории, которые Пирогову всегда было стыдно слушать, и так до самого конца лекции – то история, то земные поклоны, если покажется, что Мудров открывает глаза.
Все это было гадко и тошно, Пирогов кусал ногти и старался ничего не видеть и не слышать – ни гогочущих своих сотоварищей, ни носатого Перепоясова, ни Мудрова, спящего в своем кресле.
Потом приехал Мухин, которого ждали три часа, отсморкался, откашлялся и стал читать лекцию о жизненной силе. Голос у него был бархатный, лицо выражало приятность, маленькие, острые и умные глаза сверлили то одного, то другого студента и порою с симпатией останавливались на лице Пирогова, а Пирогов чувствовал себя неловко – так, точно обманывает Ефрема Осиповича – тот думает, что Пирогов по-прежнему боготворит Мухина, а он уж давным-давно не боготворит и даже, пожалуй, не очень уважает…
– Что же наша букашечка, – продолжал Мухин, с приятностью вглядываясь в смутное и тревожное лицо Пирогова, – что же с ней, покинула ли ее или нет сила, данная ей господом, сила жизни, жизненная сила? О нет, господа, о нет. Букашка, встречаемая всеми нами в кусочке льда, замороженная и, казалось бы, умершая, не умерла. Начала и сути не покинули ее. Отогревшись на солнце, набрав грудкой своею свежего и чистого воздуха, покушавши амврозии цветочной, улетает с хрустального льда наша букашечка, улетает, воспевая и жужжа сладкую хвалу богу, премудрости его, милости и величию. Вот что есть жизненная сила. Можно ли ее объяснить неверным нашим, тяжелым и грубым языком? Полет и движение – вот что есть жизненная сила. Она в дуновении ветерка, в крыльях бабочки, порхающей с цветка на цветок, в вечной смене первоначального вещества, в…
Наконец он покончил с жизненною силой, о которой любил поговорить, и понюхал табаку. Молча и напряженно аудитория ждала, пока он чихнет, но он не чихнул – заряд оказался слабым, процедура началась с начала, наконец все произошло – Мухин чихнул и с победною лаской взглянул на Пирогова, как бы говоря: вот я каков, твой покровитель, видишь, как я хорош.
«Батюшки, да он глуп, – помимо своей воли внезапно подумал Пирогов и, испугавшись, что Мухин прочитает его мысли по глазам, отворотился к окошку, – мало того, что неуч, так еще и глуп…»
В эти дни он всех стал считать невеждами и глупцами. У каждого студента наступает порою такое время, когда ему кажется, что знает он много – если не все, то куда как больше своих наставников и друзей, и что ему осталось совсем пустяки для того, чтобы постигнуть решительно все тайны бытия. Именно такое время переживал Пирогов. С тоской и раздражением слушал он своих профессоров, наперед зная, что они скажут, как пошутят, чем кончат лекцию. С каждым днем рушились и в прах рассыпались прежние боги – недоступные, мудрые, необыкновенные.
Украдкою он взглянул на Ефрема Осиповича.
Этот человек поселил в нем страсть к медицине, ему он подражал в своих детских играх, от одного его взгляда он робел и терялся – где это время, где юность – он в свои шестнадцать лет любил в мыслях обращаться к своей невозвратимо ушедшей юности, – где то время, когда не было для него человека уважаемее и выше, чем Ефрем Осипович Мухин?
Мухин говорил, Пирогов не слышал его. Как в тумане представлялось ему приятнейшее лицо Ефрема Осиповича, несколько постаревшее и как бы припухшее с тех пор, но близкое тому, хоть и без того удивительного выражения властной решительности, которое потрясло Пирогова-ребенка много лет назад в дни тяжелой болезни брата.
Что теперь с ним?
Ужели наполеоновская решительность и смелость покинули его за эти последние годы?
Или он потерял веру в свою науку и стал слугою ее, робким и нерешительным, вместо того чтобы быть хозяином и властелином?
Как во сне, донеслись до него заключительные слова мухинской лекции:
– Сегодня по нашему расписанию следовало нам говорить о деторождении. Но так как деторождение есть предмет несомненно скоромный, а нынче великий пост, то мы и отлагаем изучение предмета сего до времени более удобного и тем самым исправляем ошибку, совершенную нами при составлении нашего расписания лекциям.
Спустившись с кафедры и проходя мимо Пирогова, он, по своей привычке, положил ему на плечо свою короткопалую сильную руку и с добрым выражением заглянул в глаза, точно молчаливо спрашивая о чем-то, но Пирогов не нашел в себе силы, чтобы хоть улыбнуться своему благодетелю, и неприязненно опустил голову.
– Что с тобою, мой друг? – не стесняясь студентов, спросил Мухин. – Не болен ли ты?
И умелым движением многодетного отца и к тому же лекаря дотронулся тыльной стороной ладони до лба Пирогова – попробовал, нет ли жару. Потом покачал головою не то с укоризною, не то с печалью и, припадая на одну ногу, пошел из аудитории к себе в деканат.
А Пирогов все стоял в проходе, опустив голову, чувствовал, что старик обижен, но не находил в себе сил догнать его и несколькими словами загладить свою невольную вину.
День выдался жаркий, и идти от университета до Пресненских прудов в Кудрине с тяжелым кульком костей и в ужасной, точно каменной, шинели было так мучительно, что уже на полдороге Пирогов совершенно выдохся и понял, что шинель все равно придется снять, как это ни стыдно. Совершенно изнемогши, он присел на лавочку возле деревянного домика с мезонином и с белым билетиком в окошке, положил возле себя неудобный и громоздкий кулек с человеческими костями – неслыханное и невиданное для студента сокровище, слегка стянул с правой ноги набивший пузырь сапог и задумался о природе такого лишнего для него чувства, как стыд бедности. Вокруг весело и громко орали грачи, прямо в лицо светило благодатное солнце, небо над Москвой было ярко-синее, точно вымытое, и серьезное направление мыслей довольно скоро оставило Пирогова.
«Сниму, и баста!» – решил он, поднялся и скинул проклятую шинель, которую принужден был носить всегда, даже в аудитории, из-за того, что мундирный его сюртук с красным воротником и медными пуговицами, перешитый сестрами из старого зеленовато-рыжего фрака, вызывал не только смех товарищей, но и косые взгляды полицейских на улицах Москвы. О панталонах же и говорить не приходилось. Рвались и расползались они настолько часто, что он никогда не мог отвечать за себя, и ежели где слышал смех, то относил его на свой счет до тех пор, пока, зайдя в укромное место, не обследовал себя со всех сторон и не принимал экстренные меры тут же, для чего всегда носил с собою иглу с нитками.
Сбросив долой шинель и чувствуя себя как бы несколько нагим, он с мрачным выражением лица оглядел себя, поправил воротник сюртука, потер обшлагом одну из давно потускневших медных пуговиц, перекинул шинель через плечо в одно и то же время и небрежно и так, чтобы полы ее закрывали наиболее потертую и драную часть сюртука, из которой все время лезли какие-то белые лошадиные волосы в таком огромном количестве, что было непонятно, когда же они наконец все вылезут прочь и сколько же их заложено в этом сюртуке, называемом товарищами пироговским полурединготом.