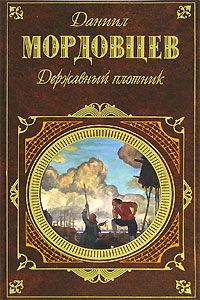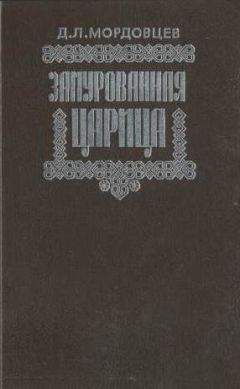– Какой!.. Ворона старая.
– Не говори… Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит.
– Какой хохлач?.. – вспыхнула Марфа.
– То-то… тихоня… Себе на уме.
– Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь.
– Ну-ну, полно-ка… А для кого брови вывела да подсурмилась?
– Что ты! Что ты!.. Для кого?
– А князь-то на что?.. Олелькович.
Марфа еще более загорелась:
– Стара я уж… бабушка.
– Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.
Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была женщина честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще, как холеное, «дроченое дитя», которое не иначе кушало белые крупитчатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое «золотое чадушко», что калачик «отнят у заиньки серенького», которое пило молочко только от «коровушки – золотые рога» и спало в своей раззолоченной «зыбочке» тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный «котик – серебряны лапки», – потом перебалованная в молодости своею красотой, на которую «ветер дохнуть не смел», а добрые молодцы от этой красоты становились «аки исступленные», перебалованная затем посадником Исачком, за которого она вышла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно золот перстень», но которым она помыкала, как старою костригою в трепалке[50]; избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, – Марфа обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат! Что-то забрала она себе в свою безумную, с «долгим волосом» голову…
– Уж попомни мое слово: быть тебе княгинею… – настаивала приятельница.
– И точно: княгинею новгородскою и киевскою!
– Почто, милая, киевскою?
– А как же?.. Он, хохлач-то, будет киевским князем, а я с ним…
И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами:
– Что уж и молоть безлепично!.. Я вить давно и сорокоуст справила.
– По ком, Марфуша? – удивилась Настасья.
– По соби, мать моя.
– Как «по соби»?.. Я не разумею тебя.
– Да мне давно сорок стукнуло… А сорок лет – бабий век!
– Токмо не про тебя сие сказано.
Приятельницы сидели в известном уже нам «чюдном», по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побережье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим великолепием.
Марфа то и дело поглядывала своими черными, с большими белками глазами то в зеркало – медный, гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, – то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя то «ушкуйников», то дружину Васьки Буслаева[51], а парни и девки – золотая молодежь новгородская – просто веселилась. Или, по словам строгого старца Памфила, игумена Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятение и возбешение: и в бубны и в сопели играние, и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские, плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич – бесовские песни; жены же и девы – и главами кивание и хребти вихляние…»
Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массами. Словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу… Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватавшая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это «кумирское празднование», греховное, «сатанинское», но тем более для сердца сладостное… А теперь уж ни «главою кивание», ни «хребтом вихляние» – не к лицу ей; а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» – вон как эта Настя говорит, будто бы она своими красивыми очами заигрывает с «воловьими буркалами» этого хохлача князя…
– Ах, скоморохи! Смотри, Марфуша, в каких они харях! И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разны…
– Вижу. То знамые мне околоточные гудошники.
– Знаю и я их… Еще нам ономедни действо они творили, как гостьище Терентьище у своей молодой жены недуг палкой выгонял… А недуг-то испужался и без портов в окно высигнул.
Приятельницы переглянулись и засмеялись – молодость вспомнили…
В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка – «мятелька», опушенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей. За собою мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком.
– Баба-баба, пусти меня на Волхов, – бросился мальчик к Марфе.
– Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? – ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.
– С робятками катацца… Пусти, баба.
– Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!
– Ниту, баба, – не со смердьими – с боярскими… Вася-посаднич… Гавря-тысячков… Пусти!
– Добро – иди, да токмо с челядью…
Мальчик убежал, стуча по полу салазками.
– Весь в тебя – огонь малец, – улыбнулась гостья.
– В отца… в Митю… блажной.
Скоро приятельницы увидели в окно, как этот «блажной» внучок Марфы уже летел на своих раззолоченных салазках вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка коней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчиками, наподобие пристяжных, откидывая головы направо и налево, а парень в корню даже ржал по-лошадиному. Маленький боярчонок вошел в роль кучера и усердно хлестал по спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали с своими салазками «Вася-посаднич» да «Гавря-тысячков».
– А вон и сам легок на помине.
– Кто, Настенька? – встрепенулась Марфа.
– Да твой-то…
– Что ты, Настенька… Кто?
– Хохлач-то чумазый…
– А-ах, уж и мой!
Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа с своею гостьею, проезжал на статном вороном коне князь Михайло Олелькович. Он был необыкновенно картинен в своем литовском, скорее киевском одеянии: зеленый зипун с позументами на груди, верхний опашень с откидными рукавами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом; на голове – серая барашковая шапка с красным колпаком наверху, сдвинутая набекрень. За ним ехали два вершника в таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших, желтых, как цветущий подсолнух, штанах.
Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна этого дома, и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку и поклонился. Поклонились и ему в окне.
– Ишь буркалищи запущает. Ух!
– Это на тебя, Настенька, – отшутилась Марфа.
– Сказывай! На меня-то, курносату репу…
Белобрысая и весноватая приятельница Марфы была действительно неказиста. Но зато богата: всякий раз, как московский великий князь Иван Васильевич навещал свою отчину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у «курносой репы».
– А скажи мне на милость, Марфуша, – обратилась Настасья к своей приятельнице, когда статная фигура Олельковича скрылась из глаз, – я вот никоим способом в толк не возьму – за коим дедом мы с Литвой путаться на вече постановили, с оным королем, с Коземиром? Вопрошала я о том муженька своего, как он от нашево конца в посольство с твоим Митей к Коземиру посылан был, – так одна от нево отповедь: «Ты, – говорит, – баба дура…»
Марфа добродушно улыбнулась простоте приятельницы, которая не отличалась и умом, а была зато добруха.
– Да как тебе сказать, Настенька, – заговорила она, подумав. – Московское-то чадушко, Иванушко князь, недоброе на нас, на волю новгородскую, умыслил – охолопить нас в уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, к королю под крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаем и себя в грамоте выгораживаем: ни медов ему не варим, как московским князьям дозде варивали, ни даров ему не даем, ни мыта княженецкого, а токмодеи послам и гостям нашим путь чист по литовской земле, литовским – путь чист по новгородской.
– А как же, милая, о латынстве люди сказывают?
– То они сказывают безлепично, своею дуростию.
– А про черный бор сказывали?
– Что ж черный бор! Бор-ту единожды соберем, как и всегда так поводилось, а черную куну будут платить королю токмо порубежные волости – ржевски да великолуцки.
– Так. А хохлач-то почто сидит на Ярославове дворище?
– Он княж наместник, и суд ему токмо судить на владычнем дворе[52] заодно с посадником. А в суды тысячково и влыдычни и монастырски – ему не вступать.