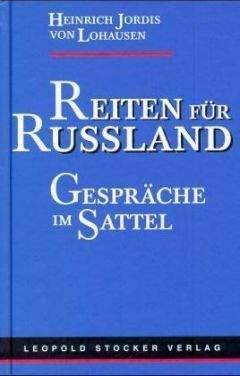Только два из этих государств противостояли позже этому движению, оба пришедшие с опозданием: Россия и Бранденбург, оба, после того, как они защитили свой тыл, Россия в Сибири, а Бранденбург в Силезии и Восточной Пруссии. Плотно прижатые друг к другу, они тогда двинулись в обратном направлении: одно до Мозеля, другое до Варты. Только они оба проросли в смысле старого Великого переселения народов в Европу, а не, как другие, в противоположном ему смысле — из Европы. Обоим — как Потсдаму, так и Петербургу — приписывали, и, в определенном смысле, с полным основанием, славу «азиатских» держав. Они направили давление против давления и тем самым остановили движение других на восток на добрых двести лет.
Мы собираемся осуществить наш поворот обратно — снова на восток, новый поворот русских еще ожидается, объединить эти два поворота в один, и вмести довести его до Тихого океана, для этого мы здесь, не для того, чтобы ставить новые промежуточные границы, не для того, чтобы округлить нашу территорию, не для того, чтобы вырвать то, что проросло. Это было бы ошибкой. Той же ошибкой, что и у французов. Они тоже напирали на восток; Франция не могла увеличиваться на суше в каком-то другом направлении. Но когда она схватила Германию, то было неверно нацеливаться меньше, чем на всю Германию, неправильно было отхватывать для себя только куски ее, и в остальном — как хотел Ришелье — «немецкие дела оставлять по возможности в неведении». Французы промахнулись, они украли Эльзас. Но использовать этот Эльзас для себя в качестве стремени, сделать эльзасцев передовыми бойцами совместного немецко-французского дела, поднять своих собственных королей в седло империи — так глубоко они не думали. Они заключали союзы с соседями соседей, бесплодные союзы, опасные союзы. Они не стремились перейти через Везер и через Эльбу. Они хотели Рейн, перед ним, как минимум, один гласис, и этого было слишком мало.
Такая политика обречена была на неудачу. Она жила за счет отрицания соседа, не за счет его согласия, хотела только части. вместо целого. Тот, кто нападает на своего соседа, либо проглатывает его полностью с кожей и волосами, либо лучше оставляет его в мире. Воевать с чужим народом, имеет смысл только либо из самообороны, либо в намерении сделать его — оставляя таким, как он есть — частью своей собственной общности. Так захватывали персы, так делал Александр, так поступали германские короли. Они не делили, они мыслили в целостности. Так же франки покорили своих соседей, одно племя за другим: всех бургундов, всех тюрингов, всех аллеманов…
То, что было меньше, было злом и остается таким еще сегодня. Когда еще четверть тысячелетия назад Австрия окончательно отобрала у турок лежащую перед ее воротами Венгрию, она присоединила, само собой разумеется, всю Венгрию, включая всю Хорватию и всю Трансильванию к замечательной коллекции королевств и княжеств Габсбургов, дав ей тем самым до 1918 года сразу несколько народов в их совокупности. Но избежав здесь ошибки, Австрия вслед за тем совершила ошибку с сербами. Она принимала их сотнями тысяч как беженцев, но не захватила их томящееся под турецким господством отечество, скажем точнее: Принц Евгений Савойский завоевал императору Белград как будущий трамплин и северную Сербию, однако стареющий Карл VI снова отдал захваченное всего лишь двадцать лет спустя. При этом оба сербских патриарха еще раньше предложили императору свои пространные области как имперские епископства в духе немецких архиепископств. Из-за того, что мы тогда не согласились на это, нам отплатили в 1914 году убийством в Сараево в тот же июньский день, в который на 525 лет раньше сербская нация была побеждена османами.
Выдирать куски из плоти побежденного или освобожденного — это порождает только новую войну и новое бедствие. Когда совсем сносят устаревшие границы — за это можно простить примененное насилие, но если их только немного переносят, то за это прощать нельзя. Однако, Франция упустила возможность большого прыжка, здесь, как позже — через океан. Она бросила на произвол судьбы ее великих первооткрывателей, ее часто замечательных моряков. А когда появился Наполеон, было уже слишком поздно, большая империя в Америке уже растрачена зря. Версальскому двору маленькие преимущества в Германии были важнее Канады и Миссисипи.
Франция любит свои четыре стены. Она неохотно выглядывает за них. Случайно ли, что она породила множество изысканных, выдающихся умов, но никого, совсем ни одного действительно великого? Что поистине велико, самое великое во Франции, — это ее соборы, творения неизвестной элиты. Но ни Леонардо да Винчи, ни Шекспир, ни Гёте, ни Бетховен — никто из них не был французом. Наполеон был итальянцем. Среди французских художников есть импрессионисты, но не было ни одного Микеланджело, ни одного Рембрандта. У Франции были замечательные короли, но Фридриха II Гогенштауфена вы здесь не найдете. Может быть, французы не терпят людей, слишком выделяющихся своим масштабом из общей массы? Не мешает ли им при этом их избыток умеренности, избыток насмешки, критики? Не без причины, во всяком случае, самые великие произведения Лувра были созданы если не в Греции, то в Тоскане или Нидерландах, самые значительные музыканты, которые когда-либо приезжали в Париж, почти все были иностранцами, а самый сильный властитель, который правил в Версале или Фонтенбло, был никто иной, как корсиканец…
Итальянцы тоже любят насмешку и критику. Но еще больше они склонны восхищаться, они любуются, они думают глазами. Они доверяют своим чувствам больше, чем интеллекту. Я знаю их, как будто бы они были моими детьми. Они актеры, которым нужна сцена. Сначала эта сцена — все, что лежит около Средиземного моря. Это море — это ее элемент. «Per noi è la vita» — «Но для нас это жизнь» — кричал Муссолини британцам, «не просто дорога, как для вас!» И итальянцы хотят это море для себя, море и его проливы. То, что лежит по ту сторону, принадлежит чужеземцам или варварам. И мы тоже варвары для них. Все еще. Они нуждаются в нас, так как мы — более сильные, потому они восхищаются нами, но в то же время они боятся нас и, кроме того, презирают нас. Все в одном. Мы непонятны для них — именно как варвары, не знающие меры.
Однако для южных итальянцев не знающими меры кажутся уже даже итальянцы севера. «Sono tedeschi, non hanno cuore» — «они как немцы, у них нет сердца» — так сказал в Пьяенце один карабинер-южанин. Обратным примером этого была одна женщина родом из Милана, работавшая секретарем отеля во внутренней части Сицилии. Она встретила меня, сияя от радости, как своего земляка. И для нее не имело значение, что я вовсе не итальянец. Я был с севера, я не был сицилийцем! А потом Бомбелли, пьемонтец — он был подполковником — с живой жестикуляцией объяснял мне так: — «Da Pisa ad Ancona» — от Пизы до Анконы, после этой линии Италия прекращает быть Италией. Южнее этой линии живут только африканцы. Ему тоже были ближе мы, немцы, хотя все еще и иностранцы, у нас все равно нет их меры, и мы подходим к ним не больше, чем англичане, их враги. У тех есть наша мера. Жаль только, что мы понимаем это, лишь когда воюем друг с другом.
Сегодня мы ведем войну здесь и ведем войну в Африке. Но только там она является такой, какой всегда должна быть война: война исключительно для солдат. Никаких горящих деревень, никаких бегущих женщин и никаких плачущих детей. Никаких растоптанных садов, никакой изувеченной природы. Только пустыня, и ты и другие. Никаких перебежчиков, никаких дезертиров. Нет ни одного, который не был бы там добровольно. Элита здесь, элита там. Соревнование равных, за которым, как за морскими сражениями можно наблюдать издалека. Некоторые с самым большим удовольствием остались бы там навсегда. Как «Томми», так и немцы. Это не земля одной страны, и не земля другой. Это ничейная земля. Кто полюбит Сахару, тот никогда больше не избавится от нее. Итальянцы называют таких людей «Insabbiati», «занесенные песком». Чем, однако, была бы даже Сахара без противника?
Ведь воюют не на жизнь, а на смерть, но все равно печалятся, когда нет другого, противника. У существования тогда сразу больше не было бы смысла. Один стал смыслом жизни другого. Я долго хранил под своим мундиром открытку, посланную английской матерью ее сыну. Она еще была окрашена его кровью. Его вытащили мертвым из его танка и передали открытку мне. Она сообщала о полете Рудольфа Гесса. Так что и соперничество связывает: но те, которые остаются в тылу, конечно, никогда не поймут этого.
В книге для чтения моего детства было стихотворение Фердинанда фон Саара, а в стихотворении том восклицание: «… врага чудесное войско…». Это было словом солдата. То войско было императорским, а битва, которую изображает Саар, была битвой под Кёниггрецем. Он сражался там как прусский офицер. Радость по поводу гордости и чести противника, в Ливии она еще есть. Под Соллумом британский командир, едва выбравшись из своего горящего танка, поздравил своего немецкого противника рукопожатием: «A fair fight!» — «честная борьба!». С этими словами он сдался. Представьте себе это здесь!