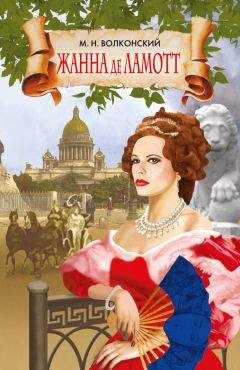Графиня Анна Петровна с взволнованным видом достала вчетверо сложенную пожелтевшую бумажку, и по тому благоговению, с которым она развертывала ее, видно было, как дорог ей этот документ.
Каково же было удивление Саши Николаича, когда он увидел, что этот документ не что иное, как собственноручное письмо Рогана к кардиналу Аджиери, как раз касавшееся злополучных денег, в присвоении которых обвиняли покойного кардинала! Это письмо совершенно реабилитировало кардинала Аджиери, так как свидетельствовало о том, что де Роган расплатился за ожерелье своими собственными личными средствами, а эти деньги в знак благодарности за долголетнюю службу подарил кардиналу Аджиери.
Он со словами радости на глазах спросил, откуда у нее это письмо. Графиня созналась – и тут Николаев узнал, что Савищева – та самая русская графиня, о которой ему рассказывал Тиссонье, то есть его, Саши Николаича, мать.
Минуты радостного свидания были несколько омрачены. Графиня Савищева после долгой разлуки нашла своего сына, но в тот же день потеряла другого. Судьба коварно подшутила над ней. В то время как она ласкала Сашу Николаича, граф Сергей Савищев, не будучи в силах перенести свое бедственное положение и позор, бросился с моста в Неву и исчез в ее волнах. Народ сбежался, но на поверхности воды уже не было человека. Так и исчез бедный граф; не нашли даже его трупа.
Саша Николаич нашел свою мать, но окончательно потерял любимую девушку. Андрей Львович Сулима открыл Мане Беспаловой, что он – не тот, кем его называют, а дук дель Асидо, князь Сан-Мартино, что он любит ее, и предложил ей свою руку и сердце. Маня прельстилась его блестящим именем и согласилась выйти за него замуж.
Свадьба должна была состояться за границей. Однако, Маня уехала туда одна, а тотчас же после ее отъезда произошел пожар в доме Сулимы, и обстоятельства сложились так несчастливо, что дом сгорел дотла, не удалось спасти не только его обстановку, но даже и самого владельца дома, который в это время спал. Только под развалинами дома удалось найти обуглившиеся останки Сулимы.
Вот как обстояли дела в тот момент, когда мы застаем Жанну де Ламотт в Крыму, над морем, за тяжелыми думами о неудачной до сих пор погоне за наследством Саши Николаича. Она еще долго стояла со скрещенными руками на груди и оглядывала простор моря, широко открывавшийся с высоты, на которой она находилась.
Это море было так же пустынно, как и окружающие скалы: ни паруса, ни даже чайки не виднелось на нем.
Жанна стояла лицом к нему, и его голубая ширь так же далеко расстилалась перед нею, как сзади тянулось бесконечное сухопутное море степи. Нужно было так или иначе миновать это пространство степи, чтобы попасть в место, где шла городская, манившая своими прелестями Жанну, жизнь.
Человек, который владел, как она считала, всем ее состоянием, жил в Петербурге, и надо было отправиться туда, чтобы отнять у него ее собственность. Конечно, добровольно он ее не отдаст, надо будет бороться с ним, но Жанна слишком привыкла к борьбе, чтобы испугаться такого врага, как какой-то незаконный сын французского аббата. Она считала его своим врагом, потому что сама была готова сделать ему всяческое зло, чтобы получить деньги. Но разве с такими людьми и с такими врагами мерилась она силами в своей жизни, которая враждовала с самой венценосной Марией Антуанеттой?!
Ей нужны были деньги как средство для настоящей деятельности, на которую она считала себя способной.
Судьба Наполеона не давала ей покоя и соблазняла своим счастьем. Почему ему удавалось все до сих пор, а ей ничего?..
«Потому, думала Жанна, глядя на далекое море, что он смел, а я теряю даром время в нерешительности…»
И она вдруг круто повернулась и пронзительно свистнула. Лошадь, забредшая довольно далеко, услыхав этот свист, подбежала к Жанне; та вскочила в седло и быстрой иноходью направилась по знакомым горным тропинкам.
Дом ее был не особенно далеко, но переезд показался Жанне необыкновенно долгим. Где только было можно, Жанна пускала лошадь во всю прыть и осадила ее, всю взмыленную, у самого крыльца.
Жанна соскочила, бросила поводья и поспешно прошла через комнаты на балкон, где княгиня разбирала груду цветов, составляя из них букет в стоявшую перед ней вазу.
– Что ты пропадала так долго? – встретила она Жанну, бегло и отчетливо выговаривая слова по-французски. – Что с тобою? – сейчас же спросила она, взглянув на Жанну.
Та остановилась, оперлась резким, решительным, мужским движением о стол и, в упор посмотрев на княгиню, произнесла с расстановкой:
– Я не могу больше так жить здесь. Я должна отправиться в Петербург.
Княгиня расставила руки, уронив и рассыпав цветы.
– Как в Петербург? – переспросила она, – разве тебе здесь не хорошо?
– Дело не в том, хорошо ли мне здесь или дурно; но мне настало время снова действовать. Я должна перестать сидеть здесь сложа руки.
– Жанна, Жанна! – со вздохом покачала головою княгиня.
– Мне нужно ехать! – настойчиво произнесла Жанна.
– Но постой, погоди! Надо же обсудить возможность этого. Одну я тебя не могу отпустить в такое путешествие…
– Я могу ехать и одна.
– Нет, уж во всяком случае, мы отправимся вместе. Об этом и говорить нечего… Но надо собраться… Как же ты хочешь вот так вдруг. Надо решить хотя бы денежный вопрос…
– Пустяки! Трать последнее, что там есть у тебя… Там, в Петербурге, я все отдам… тебе… там мы получим такие деньги, которых нам хватит и на то, чтобы оплатить наш проезд туда и чтобы ехать дальше, куда захотим, в Париж, в Лондон…
Княгиня смотрела на Жанну как бы с некоторым испугом.
– Ты думаешь, я сошла с ума? – продолжала та. – Будь покойна, никогда мои умственные способности не были в таком порядке, как сейчас. Слушай, я решила во что бы то ни стало, получить свои деньги сама… Напрасно я надеялась на членов общества «Восстановления прав обездоленных», они ничего не сделали. Мои деньги перешли к одному русскому, незаконному сыну аббата Жоржеля и русской графини. Мне нужно найти его в Петербурге и чего бы это мне ни стоило вырвать у него свои деньги. Я так решила.
Княгиня противоречила слабо. Она по природе своей была слишком мягка, чтобы оказать серьезное сопротивление энергии Жанны. Та всегда брала верх над нею.
И результатом этого разговора было то, что уже на другой же день на маленьком крымском дворе, мирно стоявшем на морском берегу, поднялись возня и суета по случаю внезапного отъезда в Петербург. Путешествие предстояло нелегкое, и сборы требовались большие.
Но для Жанны, казалось, не было ничего невозможного. Она сама съездила верхом в Бахчисарай и нашла там весьма приличную дорожную карету, которая продавалась по случаю, после скоропостижной смерти приехавшего на ней из Петербурга ревизора. Словом, не успела княгиня оглянуться, как они обе уже сидели в этой купленной Жанной карете и катили, поднимая пыль, по столбовой Екатерининской дороге в далекую северную столицу.
С покупкой молитвенника произошло именно так, как это предсказывал Орест. Он отправился на переторжку, не встретил на ней конкурента и купил молитвенник всего за три рубля, так что он обошелся ему только в сто три рубля. Это сумма была довольно крупная, но все-таки настолько ничтожная в сравнении с тысячей восемьюстами двадцатью пятью рублями, что Саша Николаич был рад, что отделался сравнительно дешево.
Орест, совершенно трезвый, принес книгу Николаеву и на этот раз говорил с ним совершенно серьезно и не через окно, а вступил в его кабинет на правах полноправного гражданина.
– Позвольте вручить вам, драгоценный гидальго, – заявил он Саше Николаичу, – вашу фамильную реликвию в полной неприкосновенности… вместе с тем я приношу тысячу извинений, что стал невольно причиной исчезновения этой книги! Но в таком случае вы должны главным образом пенять на свою собственную суровость по отношению ко мне. Однако твердость вашего характера наскочила на мою изобретательность.
– Да будет вам молоть вздор! – остановил его Саша Николаич. – Ну принесли молитвенник, и я очень рад этому!.. Надо позвать поскорее господина Тиссонье и отдать ему книгу.
Орест развалился в кресле, положил ногу на ногу и, серьезно подумав, сказал:
– Совершенно согласен с вами и уже заранее вижу ту радость, с которой почтенный француз примет этот молитвенник; он будет счастлив, а я, бедный, останусь в огорчении!.. – И Орест глубоко вздохнул и опустил голову.
– Почему в огорчении? – спросил Саша Николаич.
– Потому что с утра не имел во рту ничего, кроме зубной щетки.
– Вы опять пить?
– Гидальго!.. Это слово «пить» мне не нравится совершенно!.. И потом, уверяю вас, что нынче в высшем обществе принято пить водку; я могу доказать это своим знакомством с господином Люсли…
– С кем? – переспросил Саша Николаич.