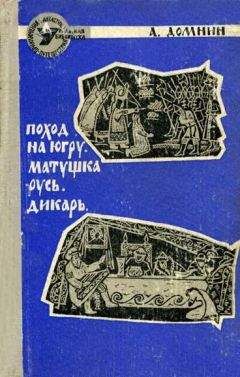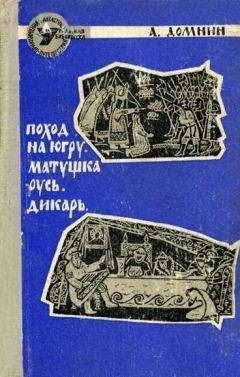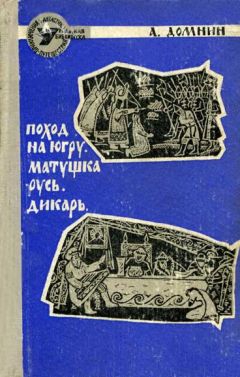Увозят Святослава к далеким ханским кочевьям. В полон, в неволю.
Вспомнилась битва. Славно рубились воины, славно. С честью головы сложили, не изведали сраму. И никто не узнает об этом. На тризне не помянет.
В мешок заманил их Кончак — седой волк. Выжидал, пока глубже в степь уйдут полки.
«Жил-был дурень, жил-был дурень»… Путята так пел. Эх, гусляр. Вот сложил бы ты песню про эту битву. Чтоб равной Волновым напевам была. А Боян узорно сказы свои сплетал. Наверное, с пиром кровавым сравнил бы сечу.
…Тут не хватило вина кровавого.
Тут пир кончили храбрые русичи:
сватов они напоили, а сами
все полегли за русскую землю.
«Брежу, — думалось князю. — Нет, не брежу».
Тряхнуло повозку — боль прошла искрой по телу. Глядит Святослав на широкую спину половца. Перегрыз бы путы, навалился бы на эти плечи…
Надсадно стонет повозка. Слышны крики подгулявших половцев.
Пить хочется. Страсть, как хочется пить! Хоть бы глоточек один.
Забылся князь. То леса родные привидятся, в яркую зелень по весне одетые, то полумрак покоев княжеских, то Путята-гусляр на своей рыжей кобыленке. И доносится издали тихий девичий голос:
Лейтесь, слезы горючие,
по лицу по белому,
смойте, слезы горючие,
красу девичью…
И будто половчанка ту песню поет. Нет, другая. Снова пришла она, невеста. «Ты будешь искать меня — и не найдешь, будешь ждать — и не дождешься. А я буду всегда с тобой…» Не укроешься от нее, как от совести своей, не спрячешься… Нет ничего дороже чести. Разметали ее князья по степи, утопили в быстрой Орели. Станут звать теперь Орель рекой горести — Каялой.
Не о том мечтали, поход замышляя.
А половцы сотней дорог
скачут к Дону великому.
Скрипят их телеги в полуночи,
словно стадо распуганных лебедей.
А Игорь к Дону войско ведет.
Уже беды его пасут птицы по дубам,
волки грозу навывают в оврагах,
клекотом орлы зовут зверя на кости.
Сказать бы Путяте. Услышь, гусляр!
Снова закачало телегу по рытвинам. Снова широкая спина половца перед князем.
Почто песенным ладом сердце встревожено? Да и кому слушать безрадостную повесть?..
Не ведал Святослав, что заполонит его сказ, что станет песня жизнью и тревогой. Зрела она в груди, болести и полон забыть заставляя.
Как душа с телом расставалася, расставалася, сама прочь пошла…
«Совсем я мертв, или не совсем? — подумал Самошка, приходя в сознание. — Наверно, совсем. Только душа из меня еще не ушла».
Хотел глаза открыть, да побоялся: вдруг он уже в аду, и черти ему кипящий котел готовят…
Прислушался. Тихо. И почему-то зябко… Приоткрыл один глаз, второй… Огромная, как серебряный щит, луна стоит низко над полем. Тень какая-то надвинулась на луну.
«Смерть, — подумал Самошка. — За мной пришла».
Прояснилась в памяти сеча вчерашняя. Вот они, чада родимые, рядком полегли. Не миновала их судьбинушка.
Тень придвинулась, склонилась над чьим-то телом, пошла на Самошку. Вот она уже рядом.
Сколь несправедлива ты, смерть! Всех без разбору косишь. Почто сынов отняла… Не дамся тебе, не подвернусь!
Самошка нащупал топор, вскочил, замахнулся. Увернулась смерть от удара, прыгнула на старика. Барахтается под ней Самошка, кряхтит.
— Врешь, не уйдешь, поганый, — шепчет смерть. Обида в сердце вскипела: его, православного, так поносят.
— Сама ты поганая! — завизжал старик.
Смерть приподнялась, всмотрелась ему в лицо.
— И впрямь, бороденка у тебя рыльская… Ранен?
— Да кончай скорей, не мотай душу!.. Погоди, это никак ты, скоморох?
— Про князя нашего не ведаешь?
— А что? Порублен? — Самошка поднялся.
— Может статься, и порублен, — грустно ответил Путята. — Ищу вот…
«Значит, я живой, — подумал Самошка. — А сынов нету… Детки мои! Проснитесь, сынки милые…»
На полсвета хватит злобы у хана Елдечука, Кабы его воля — все кочевья к рукам бы прибрал. Да немощен и небогат он против Кончака, Гзы и прочих ханов. Только и мог бить недругов на своем стану, в петушиных боях.
Навезли Елдечуку диковинных петухов из разных краев, злобных, как он сам, и в боях искусных. Прозвал он каждого именами князей и ханов, а гладкого длинношеего черныша — своим именем нарек. Захочется хану трепку задать гордому Кончаку — выпускает черныша против неповоротливого цветастого петуха «Кончака». До полусмерти затаскает того черныш. А хан, хищно оскалив редкие зубы, хватает пальцами, будто когтями, воздух и шепчет:
— Так его, так!
Раскосые глаза его посажены слишком близко к переносью, и чудится, что глядит он не на петушиный бой, а на кончик носа.
Звал Елдечук пленного Святослава на такие зрелища. Противно становилось князю, по возможности хворым сказывался.
Вспомнилась ему сказка про воробья, которую половчанка поведала перед битвой. До чего же похож кривоногий ханишка на вороватую серую пташку, вознесенную в орлы.
Оторопь взяла князя, как представил, что половчанка могла стать ханской наложницей — до того страшно это и нелепо…
Родная земля… До боли, до скрежета зубовного гнетет тоска. Хоть бейся головой в камни, хоть зверем вой на всю степь от немощи и бессилия. Даже воздух здесь какой-то чужой, застойный, будто пропах ханскими петухами…
Особо князя не неволили — живи, как знаешь. Только два мрачных широкогрудых стражника следовали за ним неотступно — в его ли шатер, на соколиную ли охоту.
Чтобы тоску заглушить, обратился Святослав к соколиной охоте.
Дни пропадает на ней.
Шумят птичьим гомоном степные озера. Валом идут с теплого моря, гнездятся тут гуси, утки, лебеди.
Пустил князь с руки белого кречета — злобную и красивую птицу северную. Пером чист он и гладок, черные глаза, как бусинки, горят. Здесь, в степи, кречету ноги в воде держат — не любит жару, ноги свои рвать от нее начинает. Но даже норовистая эта птица привыкает к неволе. А человек? А ты, князь?
Легко взмыл в поднебесье ширококрылый хищник и сразу ринулся камнем на запоздавшего селезня. Свистом резнули воздух утиные крылья, помчался селезень к озерку, но опрокинулся, срезанный острым когтем. А кречет уже подхватил его и тяжело полетел с добычей. Над камышами колыхалась стайка легких утиных перьев.
Снова ушел кречет в подоблачье и долго-долго кружил над камышовым озером. На нем суетились утки, в камышах гоготала гусыня, не спеша низко прошли над водой два белых лебедя — даже в полете они горды и неторопливы. Опустились, взбуравив воду, на середину озера и поплыли, тихо курлыкая.
Должно быть, их высматривал кречет. Стрелой просвистел он над первым лебедем, но тут же был отброшен ударом могучих крыльев птицы. Взмыл кверху и снова ринулся на лебедя, вытянув когти. Лебедь быстро и сильно отбивал хищника ребрами крыльев, и не мог кречет пробиться сквозь удары.
Святослав подивился ловкости и силе гордой птицы — привстав на воде, она грудью встречала кречета. К ней с тревожным кликом подоспела другая, и кречет торопливо полетел прочь. Он сел прямо на берегу, тяжело дышал и разевал клюв. А лебеди, торжествующе прокурлыкав, поплыли рядом в камыши.
Святослав залюбовался ими. Чем-то напоминали они половчанку — то ли осанкой своей, то ли спокойной неторопливостью.
Нет, не ее, другую.
Была ли она, эта встреча, не приснилась ли?
Была. Где-то живет на земле девица с глазами, как утреннее небо, и серебристыми тяжелыми косами. Она ждет князя, она зовет его. Она понимает его тоску, знает о его беде.
Представил Святослав — поднимается солнце за дальними лесами, засветились церквей золотые маковки. И вся в бело-розовом, как для свадьбы, стоит печальная девица на городской стене. Ветер шевелит легкое покрывало и нежно касается бледных щек.
Простерла она хрупкие руки и не на князя смотрит, а куда-то вдаль. Битва ей видится.
О ветер-ветрило!
Зачем ты так сильно воешь?
Зачем же ты мечешь ханские стрелы
на крыльях своих легкокрылых
на воинов милого лады?
Разве мало тебе под облаками веять,
лелеять корабли на синем море?
Зачем, господине, радость мою
по ковылю развеял?
В глазах ее мольба и горе.
Смешались в жестокой битве русские и половцы, лица черны от пота и пыли.
А девица тянет руки к солнцу в великой скорби:
Светлое и ласковое солнце!
Ты для всех несешь тепло и негу.
Так зачем же, господине, ты простерло
жаркие лучи свои
на воинов милого лады?
В безводной степи
жаждой стянуло им луки,
колчаны закрыло бессильем?
Святослав ощутил соленый осадок на губах. Подумал: «Вот так и Ярославна, добрая жена Иго-рева, все глаза на степь проглядела, призывая мужа».