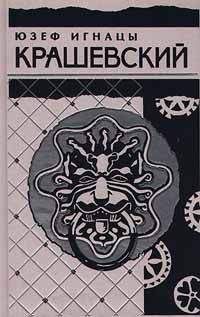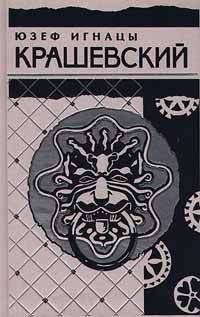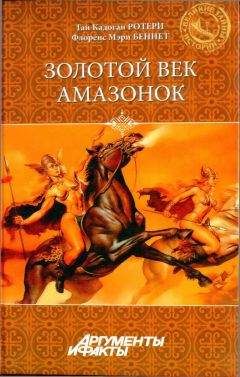Ознакомительная версия.
Во время карнавала, в понедельник, король торжественно вручил Брюлю директорство акциза и податей.
Напрасно скромный и обремененный тяжелыми обязанностями юноша отказывался от этой чести, считая себя недостойным ее: король Август II терпеть не мог противоречия, не любил никаких отговорок и заставил его принять ключи от кассы.
Брюль должен был наблюдать, чтобы золото непрерывно плыло в кассу, хотя бы и перемешанное с потом и слезами.
Это уже не был прежний смиренный паж, но муж, с которым должны были сводить счеты самые сильные. Король не позволял сказать на него дурного слова и тотчас грозно хмурился. В нем одном он находил все то, что прежде должен был искать в десяти. Брюль был знатоком живописи, любил музыку, умел добыть грош оттуда, где его не было, был где нужно глухим и слепым, и всегда послушным…
Брюль получил от короля в подарок дом, из которого он сделал настоящую игрушку.
Вечером в последний вторник [11], который пышно и великолепно должен быть проведен во дворце, новый директор акциза, вчера только лишь утвержденный в этой должности, в своем собственном доме (которого нельзя было назвать еще дворцом), отдыхал в кресле и, казалось, чего-то ожидал. Комната, в которой он сидел, могла служить кабинетом самой разборчивой из женщин, испорченных роскошью двора.
В резных золоченых рамках блестели зеркала; стены были обтянуты бледно-лиловой шелковой материей; на камине, этажерках и столиках было множество фарфоровых и бронзовых безделушек, пол был выстлан мягким ковром. Брюль, вытянув ноги, удобно поместившись в кресле и откинувшись на его спинку, со сложенными руками, которые были еще красивее, окруженные богатыми манжетами и сияя несколькими перстнями, казался погруженным в раздумье и соображения. Иногда только, заслышав внутри дома скрип каких-нибудь дверей, он приподнимался и прислушивался, и так как никто не приходил, опять возвращался к своим прерванным мыслям. Несколько раз взор его падал на часы, стоящие на камине, так как обремененный столь многими обязанностями, он должен был считаться с временем так же, как считался с людьми и деньгами.
Лицо его, несмотря на труд и волнения, не потеряло свежести и блеска глаз. Это был человек, обещавший надолго сохраниться и имеющий более надежды, чем воспоминаний.
Внутри дома стали отворяться двери. Брюль прислушался; шаги приближались: тихая, осторожная походка позволяла догадываться, что она принадлежала человеку, который обыкновенно ходил к другим, но к которому эти другие никогда не ходили.
— Это он, — прошептал Брюль и приподнялся в кресле, — да, это он.
Послышался легкий, почтительный стук в двери, как будто кто-то ударил мягкими пальцами по бархатной портьере.
Брюль тихо сказал: "Herein" [12], и двери отворились и заперлись, не издав ни малейшего звука. В них стоял человек из сорта тех, которых можно встретить только при дворах, так как они как будто родятся придворными, и хотя колыбель их стояла в конюшне, гроб, наверное, будет стоять во дворце.
Он был высокого роста, силен, ловок, гибок, как клоун; но осанка его была ничто в сравнении с лицом. При первом взгляде на этом лице ничего нельзя было прочитать. Черты без выражения, холодное лицо, общее, весьма обыкновенное, что-то ни красивое, ни дурное, но останавливающее на себе внимание.
Под морщинами, которые исчезали, когда он молчал, были припрятаны все пружины, приводящие в движение лицо. Он стоял у двери спокойно, до того сжав губы, что их почти не было видно, и покорно ждал, когда к нему обратятся.
По костюму нельзя было судить о его положении в свете. Он не был роскошен и не бросался в глаза. Темное платье, стальные пуговицы, камзол скромный, вышитый, остальной костюм тоже черный; на башмаках пряжки, крытые лаком и почти невидимые, сбоку шпага со стальным эфесом, на голове парик, который был надет как неизбежная необходимость и потому казался скорее официальным, чем изящным. Под мышкой он держал черную шляпу без галуна; одна рука была обтянута перчаткой, и даже батистовые манжеты он забыл обшить кружевами.
Брюль, увидав вошедшего, быстро поднялся, как бы отброшенный пружиной, и, пройдясь по комнате, сказал:
— Ганс, у меня только полчаса свободного времени, и я призвал тебя для серьезного разговора. Отвори, пожалуйста, двери и взгляни, нет ли кого в передней.
Послушный Ганс, имя которого было Христиан, а фамилия Геннике, тихо отворил двери, окинул глазами переднюю и дал знак рукой, что они одни.
— Ты знаешь, вероятно, — начал Брюль, — что вчера его величество изволило назначить меня директором акциза и вице-директором податей.
— Я пришел именно с тем, чтобы вас поздравить, — отвечал Геннике, кланяясь.
— Право, не с чем поздравлять, — прервал его Брюль, принимая на себя вид человека недовольного и озабоченного. — Это опять новое бремя на мои слабые плечи.
— Которые, однако, не согнутся под ним, — заметил, кланяясь, стоящий у двери.
— Ганс, — обратился к нему Брюль, — все дело в двух словах: — хочешь ли ты присягнуть мне, что будешь верен и послушен? Хочешь ли вместе со мной рисковать сломать себе шею? Отвечай…
— Вдвоем, мы никогда не сломим ее, — с тихой и холодной улыбкой шепнул Геннике и покачал головой.
— Посильнее нас ломали.
— Да, но они были менее ловки, чем мы. Сила и могущество это нуль, если не уметь пользоваться ими. А мы, я вас уверяю, сумеем. Я согласен, но с условием, чтобы у меня ничем не были связаны руки.
— Помни только, — холодно заметил Брюль, — что это не пустые слова, но клятва.
С какой-то злой иронической улыбкой Геннике поднял руку с двумя пальцами кверху и сказал:
— Клянусь… но чем, хозяин и государь мой?
— Перед Богом, — отвечал Брюль, набожно нагнув голову и сложив руки на груди. — Геннике, ты знаешь, что я искренно набожен и никаких шуток…
— Ваше превосходительство, я ни над кем и ни над чем никогда не шучу. Шутки вещи дорогие, многие заплатили за них жизнью.
— Если ты пойдешь со мной, — прибавил Брюль, — я в свою очередь обещаю дать тебе власть, значение и богатство…
— Особенно последнее, — прервал Геннике, — так как в нем заключается все остальное… Богатство…
— Ты забыл, вероятно, о судьбе того, который, несмотря на свое богатство, очутился в Кенигштейне?
— А знаете ли вы, почему? — спросил стоящий у дверей.
— Немилость государя, немилость Бога.
— Нет не то, а пренебрежение туфлей. Умный человек должен поставить на алтаре туфлю и на нее молиться. Женщины все делают.
— Однако же, и сами падают; а Козель? Козель в Стольфене.
— А кто подставил ногу Козель? — спросил Геннике. — Присмотритесь получше и увидите прелестную ножку госпожи Денгофер и маленькую туфельку, под которой сидел великий король.
Брюль помолчал и вздохнул.
— Ваше превосходительство, начинаете новую жизнь. Вы ни на минуту не должны забывать, что женщина….
— Я сам помню это, — сердито отвечал Брюль. — Итак, Геннике, ты со мной?
— На жизнь и на смерть! Я человек незначительный, но во мне много опытности; поверьте мне, ум мой, воспитавшийся и созревший в передних, не хуже того, который в залах подается на серебряных подносах. Перед вами мне незачем скрываться и для вас это не тайна; Геннике, которого вы видите перед собой, вышел из дрянной скорлупы, которая лежит где-то разбитая в Цейтце. Долго я перед другими, как лакей, отворял двери, и, наконец, они открылись передо мной. Первое мое испытание было на акцизе в Люцене.
— Поэтому-то в деле акциза и податей ты мне и нужен. Король требует денег, а государство истощено; стонут, плачут, жалуются.
— Зачем же их слушать, — холодно возразил Генннке, — они никогда не довольны и вечно будут пищать. Их нужно прижать как лимон, чтобы выжать сок.
— Но чем и как?..
— Есть над чем задуматься, но мы найдем средства.
— Будут жаловаться.
— Кому? — расхохотался Геннике. — Разве нельзя загородить всех дорог саблями, а тех, которые слишком громко выразят свое недовольство, разве мы не можем, ради спокойствия нашего государя, посадить в Кенигштейн, отправить в Зоненштейн или заключить в Плейзенбург?
— Да, это правда, — задумчиво сказал Брюль, — но это не даст денег.
— Напротив, это-то их нам и доставит. Разнузданность ведь ужасная. Шляхта начала подавать голос, мещане завывать, а тут и мужичье заревело.
Брюль слушал с большим вниманием.
— Денег нужно очень много, а нынешний карнавал, ты думаешь, даром пройдет?
— Конечно, и все что спустит двор, пойдет к тому же народу, а не в землю; следовательно, у них есть чем платить. В деньгах мы нуждаемся для государя, — прибавил он, поглядывая на Брюля, — а и нам они бы пригодились. И вашему превосходительству, и вашему покорному слуге.
Ознакомительная версия.