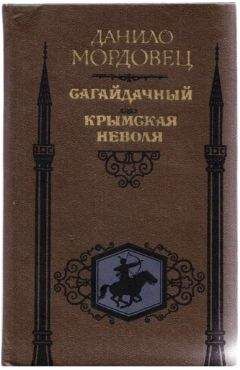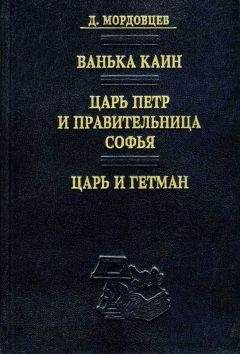— Hex жие Марина, царица москевська! — возгласил князь Януш.
— Hex жие царица Марина! Hex жие царевич! Hex жие злота вольносць! — раздались голоса.
— Слово гонору, панове! — воскликнул пан Будзило, кругленький панок, закручивая свои кругленькие усики.
— Я еще раз побываю в Москве.
— А разве пан опять захотел кошатины да мышатины? — лукаво улыбнулся своими желтыми глазами хитрый хохол Мелетий.
— Ну, нет, пане Орфологу, теперь будет не то... А проклятое это было, панове, времячко, как мы сидели в Кремле и как нас вымаривали оттуда проклятые москали эти — Минин да Пожарский, уж и времячко! — начал пан Будзило, входя в свою роль.
— Поверите ли, панове, когда мы все поели, что там у нас было, мы стали воровать у лошадей овес и сами его съедали, точно кони. Не стало овса — коней поели! Не стало коней — стали есть траву, всякие корни, а там сначала собак всех переели, потом кошек...
— А не царапали пана кошки? — подзадоривал хозяин, подмигивая гостям.
— Царапали, пане ксенже, да это что! И кошек не стало...
— Без кошек вас мыши, я думаю, съели? — подмигивал хозяин.
— Нет, пане ксенже, мы их сами поели.
— И после того не мяукали по-кошачьи?
— Мяукали, да еще как, пане ксенже! Особенно, панове, пришлось мяукать, как ничего не осталось кушать, кроме падали и мертвецов: этих и из земли вырывали и ели.
— Без соли?
— Без соли, пане. А там начали есть живых — друг дружку. Начали с пехоты...
— А пан не в пехоте служил? — допрашивал князь Януш.
— Нет, пане ксенже, я вырос на коне... Вот и начали есть пехоту... Однажды спохватились — нет целой роты: всю роту пана Лесницкого съели. Один пехотный поручик съел двух сыновей своих, один гайдук съел сына, другой — мать-старуху. Офицеры повыели своих денщиков и гайдуков, а то случалось, что гайдук съедал пана...
— Ах, он пся крев! — не вытерпел один панок.
— Как же это хлоп смел есть пана?
— Съел, пане, что будешь делать! Уж мы так и остерегались друг дружки — вот-вот накинется и съест... А потом, панове, мы такое правило поставили: родственник может есть родственника, как бы по наследству, а товарищ — товарища... Не один раз и судились из-за этого: случалось, что иной съедал своего родственника, дядя племянника, а у съеденного был ближайший родственник — отец: так присудили отцу за съеденного у него братом сына — съесть этого брата.
— И съел?
— Съел, панове... А то другое такое судное дело было во взводе пана Лесницкого: гайдуки съели умершего в их взводе гайдука товарища. Так родственник съеденного, гайдук из другого взвода, предъявил своему ротмистру иск на тот взвод, который съел его родственника, доказывая, что он имел больше права съесть его как родственника, а тот взвод доказывал, что он имел ближайшее право на умершего в их взводе товарища: «Это, — говорят, — наше счастье».
— Боже мой! Какой ужас! — тихо всплеснул руками юный Могила.
— А удивительный все-таки, панове, был этот неразгаданный человек! — задумчиво сказал пан бискуп.
— Кто? — спросил князь Януш.
— Да этот Дмитрий, что был царем московским, я все что-то подозревал в нем.
— Да и мне он казался не простой птицей.
— А ваша мосць, ксенже, разве знал его лично?
— Как же, пане бискупе: он сначала в нашем дворе толкался с московскими монахами, с греками, казаками да недоучившимися рыбальтами и спудеями... У покойного батюшки ведь тут было просто вавилонское столпотворение. Кого тут не перебывало!.. Часто я видел его — царевича-то в подрясничке — как он все о чем-то шептался вот с этим галганом, с Конашевичем-Сагайдачным, что теперь, говорят, атаманует в Запорожье. Сагайдачный тоже болтался тут одно время, когда вышел из братской школы.
— Ваша княжеская мосць говорит, что Сагайдачный учился в братской школе?
— Да, здесь в Остроге, пане бискупе, но это было давно.
— Жаль... Его мосць князь Василий, ваш батюшка, много способствовал разведению этой саранчи тэго пшеклентего схизматства.
— Но он же, пане бискупе, усердно служил и интересам святого отца.
— Ваша мосць говорит правду. Только не надо было плодить этих сагайдачных...
— И всех этих, пане, грицей, — добавил юный Замойский.
— Какую же шкоду чинят вам эти сагайдачные и «грици», панове? — вмешался Мелетий Смотрицкий.
— Много шкоды... Они ссорят Речь Посполигую с Турциею.
— А не они ли, пане, помогали Речи Посполитой в ее войне с Москвою? Да они ж, пане, эти грязные «грици», и орют, и сеют, и жнут для вас, и служат вам.
— На то они хлопы, быдло [Быдло — скот] паньске...
— На то их и пан буг создал, панове, — подтвердили гости.
— Ха-ха-ха-ха! — разразился вдруг князь Януш.
— Посмотрите, панове! Ха-ха-ха!
И князь Януш, охвативши пухлый живот обеими ладонями, залился самым искренним смехом.
Гости глянули по тому направлению, куда смотрел хохотавший хозяин. С замковой террасы, на которой среди роскошной зелени прохлаждались паны, видна была извилистая, тонувшая в зелени Горынь, и далекое Загорынье, и ближайшая тополевая аллея, которая вела к главным замковым воротам. По этой аллее, подымая страшную пыль, двигалось что-то необыкновенно странное: ехала небольшая крытая таратайка, в которую вместо лошадей, казалось, впряжены были люди, и звенел дорожный колокольчик.
— Ха-ха-ха! — не унимался князь Януш.
— Точно в Риме триумфальная колесница, запряженная пленными царями.
— Правда, панове, он едет на хлопах, — подтвердил пан Будзило.
— Да это патер Загайло, — пояснил пан бискуп, — он так наказывает непокорных схизматиков или совратившихся в схизму. Он очень ревностный служитель церкви, и его святой отец лично знает.
Странный поезд между тем приближался. Впереди ехал конный жолнер со значком в руках, на котором изображено было распятие. За жолнером следовал сам патер Загайло. Он сидел в легкой плетеной таратайке, словно в решете или корзине, в каких возят на гулянье детей. Верх таратайки был тоже плетеный, с сафьянным фартуком.
Таратайку с патером везла запряженная в нее шестерка хлопов. Это были почти все молодые парни, и один уже с проседью, худой и понурый. Запряжены они были так, что впереди шло двое, как обыкновенно ходили в старину кони цугом и на вынос, а сзади, у самой таратайки, четверо. За таратайкою следовал другой конный жолнер. К концу дышла подвязан был колокольчик, который и звенел при движении необыкновенного поезда.
При въезде в замковый двор хлопы прибавили рыси. Видно было, что молодежь делала это с умыслом — просто озорничала; иной закидывал назад голову, изображая ретивого коня, другой семенил ногами и ржал, третий, казалось, брыкался...
— Ги-ги-ги! — ржал коренастый парубок, подражая жеребцу.
— Ой, лишечко! Грицко задом бьет! — дурачился другой хлопец.
— Держите! Держите меня, пане, а то я брыкаться буду! — кричал третий.
Патер, высунувшийся из таратайки, хлестнул сплетенным из тонких ремешков хлыстом разыгравшихся хлопов и благочестиво поднял глаза к небу.
— Пеккави, домине [Грешные, господи (латин.)] — пробормотал он, пряча хлыст. Таратайка бойко подкатила к замковому крыльцу, на котором уже стоял хозяин с некоторыми из гостей. Сухой и сморщенный патер, поддерживаемый спешившимися жолнерами, выполз из таратайки.
— Hex бендзе Христус Езус похвалены! — приветствовал он хозяина и гостей.
— На веки векув! — отвечал князь Януш с гостями. Запряженные хлопы стояли у крыльца и с любопытством смотрели на панов, как деревенские дети смотрят на медведей. Паны также смотрели на них с веселым самодовольством, как на отличнейшую и курьезнейшую выдумку патера Загайлы: ни тем, ни другим не было стыдно, и только хлоп с проседью глубоко опустил свое хмурое, покрытое потом и пылью лицо...
— И это вольносць, рувносць, неподлеглосць! — с горестной задумчивостью проговорил как бы про себя молодой Могила и отвернулся.
Все снова вошли в палац.
В то время, когда вельможные паны прохлаждались в палаце князя Януша Острожского, рассуждая о своих панских делах, под горою, на выезде из Острога, на дворе зажиточного острожского обывателя Омелька, по прозванию Дряп-Киця, тоже в «холодку», под «повіткою», сидели хлопы и тоже толковали о своих хлопских делах. Обширный двор был заставлен разными принадлежностями хозяйства: плуг с опрокинутым кверху ралом и одним колесом без обода, чумацкие возы с малеванными ярмами, толстые, из цельного вяза, колеса, «мазниці» с дегтем, вилы и грабли, поставленные рядышком вдоль плетня, — все это занимало заднюю часть двора, где рылись в соломе куры с цыплятами, хрюкала свинья с многочисленным семейством, а петух, гордо выступая и поглядывая то одним, то другим глазом на небо, остерегал по временам свою семью особым криком от реявших в воздухе коршунов. Передняя половина двора, ближе к хате, выбеленной и расписанной у окон и «призьби» — завалинки желтою глиною, занята «вишневим садочком», в котором ярко пестреют пышные цветы мака, «горицвіт», васильки, нагидки, желтый дрок и желтые же махровые шапки «соняшника». От ворот направо расположены «комори», сараи, «стайт» с колесом, вздетым на шест: на этом колесе чернеется огромное гнездо аиста, из которого выглядывают длинноносые с длинными шеями бусолята, в ожидании матери, шагающей по ту сторону Горыни в высокой прибрежной траве. В сараи и из-под сараев с писком снуют ласточки и воробьи, которые ловко хватают всякую играющую на солнце козявку и «комашню» и тащат к своим крикливым и прожорливым детям. А за ними, прикрываясь зеленью клоповника и калачиков, устилающих кое-где двор, зорко следит серый с белою грудкою кот, которого можно было бы принять совсем за мертвого, если б иногда не сверкали из-за зелени его фосфорические глаза и не шевелился кончик предательского хвоста.