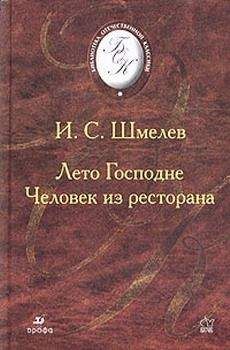— Вернуть его! Я именем… требую. Позвать! Побежал я за Колюшкой. А он уткнулся головой в окно, так в шинели и стоит. Обернулся да как зыкнет:
— Уйдите! Не могу я, не могу!
Я его и так и сяк — нет!
— Вот, — говорит, — что мы сделали! И это я, я… Прихожу в комнату к ним, а околоточный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Саверьянычем. И лицо у него ничего, не строгое. А Кирилл Саверьяныч сделал такую злую физиономию и вдруг на меня:
— Не понимаю вашего сына! — На «вы» стал. — И Александр Иваныч удивляется… Как он у вас неразвит и глуп!
А околоточный ничего.
— Он, должно быть, протокола испугался… Ну, какнибудь покончим… — Дал подписать и щелкнул портфель. — Доносы меня беспокоят… Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления… самоубийства. Мм-да-а… А Кирилл Саверьяныч меня ногой. А околоточный в окно смотрит и думает.
— Ну-с, мы его сейчас заберем… Погода-то какая! Опять грязь…
А Кирилл Саверьяныч опять меня ногой. Велел околоточный брать Кривого и в карету помощи. Понесли его и гитару забрали и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил околоточного в сени и попросил, чтобы вообще… не было какой канители… И он любезно мне:
— Ничего, теперь, кажется, все ясно… Кляузник такой был… Отлично его знаю.
Вернулся я в квартиру, а Кирилл Саверьяныч как накинется на меня:
— Вот как вы цените отношение! И меня запутали! Я из-за вас теперь в протокол попал? Запутали вы меня! Из-за всякого мальчишки… Он у вас на язык невоздержан, а я тут по чужому делу! У меня и так расходов много… Нет, мне надо быть подальше… Я теперь вижу… как к людям снисходить…
А тут Колюшка и влетел:
— Пожалуйста! Можете уходить… Вон!
— Как «вон»! Ты… смеешь? Он при тебе смеет? меня? Это он мне-то! Щенок! дрянь эдакая, шваль, молокосос! Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого! Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил!
Я совсем растерялся, а Колюшка одно и одно:
— Вон! Вон! Папаша в вас не нуждается, в вашем снисхождении!
А у того глаза заюлили, не знает, что сказать. Даже позеленел.
— Твое, — говорит, — мерзавец, счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть! И я сам, сам ухожу… сам! Ноги моей не будет! — Потом скосил на меня глаза и кипит: — Только у таких и могут быть такие… хулиганы!
Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал. Схватился, но я его за руку удержал. Потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как обернулось! Такая неприятность, и даже Кирилл Саверьяныч, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал…
Пошел я к Луше — на постель прилегла от сердца, — она мне:
— Мочи моей нету… засудят Колюшку… Вот какой негодяй оказался… Что он про него написал? Возьмут его, как Гайкина сына…
Дал ей капель и пошел к Колюшке. Дергаю дверь — не отпирает. С крючка сорвал. Сидит над столом и голову на руки положил.
— Чего ты бесишься? — говорю. — И человека вооружил… Ведь он со злобы на тебя донести может, про твои слова! Донос на тебя есть уж… Ведь к нам полиция может каждую минуту… Может, у тебя какие книги есть от Гайкина…
А он на меня, вместо того чтобы успокоить:
— Вы-то хороши! Он при вас на мертвого врал, а вы… Мамаша мне сказала… И оставьте меня в покое! И по виску себя кулаком.
— Неужели это из-за меня он? Господи! Папаша! Даже мне обидно стало, по правде сказать. Посторонние интересы, что Кривой повесился, он к сердцу принимает, а что нам будет — без внимания. И говорю ему:
— Чужой тебе приболел, а мы для тебя что? плюнуть да растереть. Вот ты как! Я же о тебе забочусь… Ответь ты мне, есть у тебя какие книги?
А он мне:
— Уйдите вы прочь! — Кулак сжал и в подушку ткнулся.
— Да пощади ты, — говорю, — хоть отца! Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал… Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттябель выйдет! — стал ему рацеи читать. — Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом… в квартире человек удавился, нам неприятность… С человеком меня поссорил! А он сколько раз меня поддержал… Протекцию тебе оказал, как в училище поступать… через знакомство с учителем…
А он ногой — раз! — о кровать.
— Так ты так! — говорю. — Ну, теперь я все вижу! Это твой Васиков долгоногий тебя с пути сбил! Как стал к тебе ходить с книжками, так ты как другой стал… Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было! Ответишь ты мне? — кричу. — Всех выгоню! И Пахомова не пущу! Его, подлеца, выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит? Ты его, дармоеда, кормишь!
Пронял его. Встал он, посмотрел так на меня и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение… Так он до места к Колюшке ходил, очень бедный… Вот Колюшка мне и говорит:
— И вам не стыдно? — Правду, конечно, он сказал. — Не стыдно вам?! Куска пожалели! Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали… Будьте покойны, не придет… Но только знайте… я и сам освобожу от расходов… Может быть, и для меня жалко?
И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает, заплаточка на локте… и поясок перекосился. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись, голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем.
— Да, — говорит, — вы там, в вашем ресторане, с господами очерствели…
Потом вдруг и вынимает из пазухи конверт.
— Вот вам от директора письмо.
Так все во мне и оборвалось.
— Какое письмо? зачем?
— Прочитайте… — И отвернулся. Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг… Отпечатал я письмо, руки у меня — вот что… дрожат, смотрю
— бумага с номером, и написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к двенадцати часам сам директор… Для разговора о сыне Николае Скороходове. Спросил я его, о чем говорить приглашают, а он только плечами пожал.
— Может быть, — говорит, — из-за Мартышки… учитель у нас есть… У меня с ним столкновение вышло…
— Какое столкновение? Что такое?
— Он меня негодяем при всем классе обозвал… Я отговаривал на войну деньги собирать, а он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать… А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему — это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают…
— И ты, — говорю, — так сказал? Колюшка! Что ж ты наделал?!
— Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть» и выгонят… Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану.
— Как так? Значит, — говорю, — все мои труды и заботы на ветер?
— Нет. Я вам очень благодарен. Я теперь по крайней мере все понимаю. Они требуют, чтобы я извинение попросил у Мартышки, но я у него просить не стану! Поглядел я на образ и сказал в горе:
— Вот тебе Казанская Божия Матерь… при ней говорю, как мне тяжело! Колюшка, — говорю, — попроси извинения!…
— Нет, не могу. Может быть, меня и не выгонят еще… Только полгода всего и учиться-то осталось… И оставим, пожалуйста, этот разговор… Все обойдется… Так это все скрутилось сразу. А тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет:
— Мне замечание начальница сделала… чуть не оборванкой назвала… Не пойду я в гимназию! Новое платье мне нужно, у меня все заштопано, и швы побелели… И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все… Шварк книги под кровать — и реветь от злости. Каторга окаянная! Как сказал я ей про Кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало, хоть сам в петлю полезай… Вот какая полоса нашла.
Плюнул я на всех и пошел в ресторан. Хоть на людях забыться! А какое там забыться! Хуже, хуже это чужое веселье раздражает…
Прямо как несчастье какое наслал на нас Кривой. И такое меня зло разобрало: зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, и Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны начала взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею… И все-то не по ней, и все претензии: и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестнo в гости позвать. Требовать стала, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. поправлять в разговоре стала даже: «До сих пор, говорит, „куфня“ говорите и „ндравится“… Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать!
— Чего тебе, глупая, — спрашиваю, — совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай… Я тебе запрещаю?
— Вы ничего не понимаете! Какая у нас обстановка? Диван драный да половики со шваброй?
Пожалуйте! Это дрянь-то! Семнадцать лет всего — и разговаривать! А я знал, знал, чего ей совестно! Материто она все высказала. Что я служу в ресторане! Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме! Дура-то! Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. И ведь наврала, в бумаге наврала! Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане! Вот какое зрение у них! Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам, — им не будет стыдно! Что же, это ее в училище так обучили? И насмотрелся я на это опровержение! Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там которая с ним из барынь, вроде замечания… Да вот как-то доктор Самогрузов и скажи супруге: