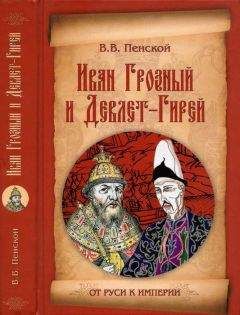— Афоньку аспида!
— Это не Афонька, не Нарышкин: это стольник Федор Петрович Салтыков.
— Что ты! Аль промахнулись?
— Истинно говорю! Промахнулись!
— Эхма… что ж делать! Не подвертывайся…
— Где же Нарышкины?
— У самой, поди, у царицы Натальи: роденька ведь…
— К Наталье, братцы! Вон ее терем….
Ворвались в терем царицы Натальи, никого нет!
— И тут пусто! Анафемы! В трубу улетели.
— Ищи, ребята! В опочивальню!
Ворвались в опочивальню, и тут никого нет.
— Ишь, горы подушек, перин! Шарь в перинах!
— Коли копьями в перины.
— Ой-ой! — слышится слабый крик из-под одного пуховика.
— Нашли! Нашли! — И из-под пуховика вытаскивают маленького большеголового человечка. Человечек дрожит, как осиновый лист, и плачет.
— Кто ты, сказывай, и для чего здеся-тка?
— Я Хомяк, карла царицын, — отвечает дрожащий человечек.
— А какой царицы?
— Царицы Натальи Кирилловны.
— А! Нарышкиной, Кирилловны… Так ты должен знать, где спрятаны Кириллычи. Сказывай!
— Я не знаю… не видал… лопни глаза — утроба.
— А! Запираешься! Так мы тебя в окошко выкинем на копья, как козявку.
И один из стрельцов берет его за шиворот и несет к окну, поминутно встряхивая: «Скажешь, бесенок, скажешь!»
— Скажу! Скажу! — отчаянно молится несчастный.
Его спускают на пол, и он падает… Его поднимают за волосы.
— Ой-ой! Скажу… пустите душу!.. Он в церкви, у Воскресения на Сенях, под престолом.
Толпа кинулась на Сени. Там, на переходах, они нашли в одном углу какой-то незапертый сундук и открыли его. Блеснула чья-то лысая маковка, шитый кафтан…
— Еще нашли!
— Кого? Вытаскивай живей!
И этого схватили за шиворот, за шитый жемчугами козырь, и вытащили из сундука. Это был высокий сухощавый старик с жидкою седою бородою и в очках.
— А! Ларька — дьяк! Ларивон Иванов, думная крыса, тебя нам и надо.
Это был действительно думный дьяк Ларион Иванов. Стрельцы его очень хорошо знали, потому что он одно время управлял стрелецким приказом, и очень солоно пришлось стрельцам его управление: он не давал им потачки.
— Здравствуй, Ларька! — издевались стрельцы, толкая его из стороны в сторону.
— Ты нас вешал, а теперь попляши перед нами!
— На крыльцо его! На копья!
Несчастный дьяк хоть бы слово проронил: он знал, что это бесполезно. Его повалили и потащили по переходам, чтобы сбросить с крыльца.
— Ловите, братцы, Ларьку — дьяка, — кричали палачи, бросая свою жертву на копья.
— Муха в золотых очках и в золотном кафтане, лови ее.
— Вот же тебе, крапивное семя! Не жужжи!
И его рассекли на части. Другие, толкая бердышами в спину карлика Хомяка, шли гурьбой к церкви на Сенях.
— Аль Ивашка Нарышкин у сенных девушек под подолом прячется? — глумились злодеи.
— Не Ивашка, а Афонька, он охочь до девок дворских да постельниц.
Стрельцы ворвались в церковь в шапках.
— Легче, дьяволы! — остановил их Озеров. — Это не кабак… Шапки долой!
Стрельцы сняли шапки. Хомяк молча указал на алтарь.
— Тамотка? Ладно, найдем.
И самые смелые направились в алтарь. Вскоре они вытащили из-под престола трепещущего Афанасия Кирилловича и повели из церкви.
— Сказывай, где твой брат Ивашка, что надевал на себя царскую диодиму?
— И скифетро, и яблоко в руки брал.
— И на чертожное место садился воместо царя… Сказывай, где он?
— Не знаю, — был ответ, — видит Бог, не знаю.
Его вывели на паперть. Внизу толпа волновалась и кричала. Видно было, что еще кого-то поймали.
Снова стали допрашивать Афанасия Нарышкина. Он молчал.
— Полно его исповедывать! — закричали иные. — Мы не попы.
— Ивашка и без него не уйдет, добудем.
— Верши его! Кидай сюда!
И этого рассекли на самой паперти и сбросили на копья.
— Любо ли, братцы? — кричали разбойники к толпе, собравшейся внизу.
— Любо! Любо! — отвечали им, но далеко не дружно. Ивана Нарышкина так-таки и не нашли. Между тем приближался вечер. Стрельцы и устали, и проголодались, а потому окончательное избиение своих «лиходеев» отложили на завтра и, расставив вокруг дворца и по всему Кремлю крепкие караулы, вышли на площадь.
На площади ожидала их новая жертва. Между Чудовым монастырем и патриаршим двором поймали знаменитого боярина и воеводу Григория Григорьевича Ромодановского с сыном Андреем. Это тот Ромодановский, что вместе с гетманом Самойловичем отбивал когда-то от Чигирина турецкие войска, приведенные на Украину Юраскою Хмельницким, который в то время писался под универсалами: «Божиею милостью мы, Гедеон — Георгий — Венжик Хмельницкий, князь русский и сарматский, князь Украины и гетман запорожский».
Стрельцам тогда солоно пришлось под Чигирином, и они злились на Ромодановского. Теперь они рады были сорвать на нем свой гнев.
— А! Попался, старый ворон! Теперь закаркаешь!
Со старика сбили шапку, драли за волосы, рвали бороду, били по щекам.
— Это тебе за Чигирин, ина! Бери да помни!
— А помнишь, какие обиды ты нам тогда творил! Холодом и голодом нас морил!
— Ты изменою отдал Чигирин туркам! Ты стакался с Юраскою да с Шайтан — пашою… Вот же тебе, ешь!
— И сынка туда же! Яблочко недалеко от яблоньки падает, и такое же червивое.
И отца, и сына убили тут же.
— Любо ли? Любо ли?
— Любо! Любо! — И шапки летели в воздух.
Трупы убитых и отрубленные части их сволакивались в одно место и укладывались рядом. Между тем, Агапушка — юродивый, напевая свою зловещую песню, сшивал их дратвою и связывал мочалками, чтобы удобнее было волочить их на Красную площадь, к Лобному месту.
Но вот стрельцы, забастовав на этот день, стали уходить из Кремля. Зацепив бердышами изуродованные тела своих жертв, они волокли их сквозь Спасские ворота на площадь, а другие шли перед ними как бы в качестве почетного караула и выкрикивали:
— Сторонись! Боярин Артемон Сергеич едет!
— Боярин и воевода князь Григорий Григорьевич Ромода — новский изволит к войску ехать… расступись, православные!
— Дай дорогу! Едет князь Михайло Юрьич Долгорукий!
— Вот думный едет, расступись народ!
Между тем навстречу им шла другая толпа стрельцов с криками. Они вели кого-то и несли насаженную на копье каракатицу — сепию (Sepia — латинское название разновидности каракатицы, — прим. ред.).
— Послушайте, православные! — кричали они. — Вот мы поймали дьякова сына Ларькина, Ваську Ларионова… Он колдун и отец его колдун!
— Вот та змея, что царя Федора отравила: мы нашли ее у него в доме… Смотрите, православные! Вот змея!
И невинную каракатицу бросают на мостовую и колют ее копьями, рубят бердышами…
— И колдуна тако ж, коли его! На костер еретика!
И ни в чем не повинного дьячего сына тут же убивают.
Подходят Цыклер и Озеров. Стрельцы расступаются перед ними.
— Что, братцы, управились? — спрашивает Цыклер.
— Управились — ста… Только не дочиста: недоимочка осталась.
— Знаю… завтра доправите. Только вот что, молодцы: маленько-таки промахнулись вы. — Он указал на трупы Долгорукого и Салтыкова. — Промахнулись.
— Есть малость, обмахнулись: нечистый попутал.
— Есть тот грех, братцы… Кажись бы, нестыдно и повиниться перед родителями.
— Для че не повиниться? Повинимся, голова от поклону не отвалится.
— Знамо, не отвалится, не на плахе-ста.
— Ладно. Давай, ребята, два зипуна, — скомандовал Цыклер.
Зипунов явилось штук десять.
— Добро. Стели наземь, клади на них покойничков, Салтыкова да Долгорукого, да только бережно, с честию.
Изуродованные тела положили на зипуны и понесли по городу. За ними следовала толпа стрельцов и народа. В ногах у убитых шел Агапушка — юродивый и с хватающим за душу выкриком вычитывал: «Блажен му-у-ж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешников не ста-а, и на седалище губителей не се-е-де»…
Многие шли за этим странным шествием и плакали.
Процессия поровнялась с домом Салтыкова и остановилась. Все сняли шапки. В окне показалось убитое горем лицо боярина, сын которого, истерзанный в клочки, лежал на зипуне перед окнами отцовского дома.
Старик вышел на крыльцо. В сенях, слышно было, в рыданиях, раздирающих душу, колотилась мать убитого. Юродивый тянул свои мучительные причитания: «Но в законе его поучится день и но-о-чь»…
Стрельцы повалились наземь, бились головами о мостовую.
— Прости, боярин… грех попутал… маленько промахнулись… Прости Бога — для….
— Бог простит. Божья воля, — мог только произнести старик и заплакал.
Тело убитого внесли в дом, а из дому по приказанию боярина слуги вынесли исполинские серебряные ендовы и купели с вином и пивом, и с поклонами стали угощать убийц. Те истово крестились, вздыхали и пили.