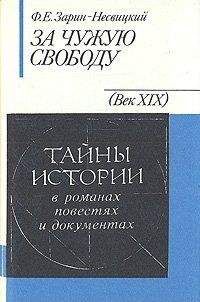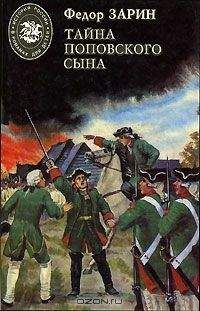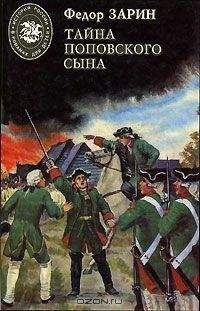– Но для тебя не могу быть и я, – едва слышно проговорила Ирина, не поворачивая головы. – Но, – продолжала она, – жизнь велика. Ты будешь видеть во мне сестру. Вот ты много говорил мне недавно о том, что уже существует общество, члены которого поклялись отдать свои силы на благо слабым и угнетенным… Война кончилась, ты вернешься в Россию… У тебя будет много работы, благородной и высокой. Я поняла ваши мысли, ваши стремления. Я тоже буду работать, хоть и вдали от тебя, но душою с тобой…
– Как вдали от меня? – спросил Левон.
– Ты мужчина, для тебя нужна большая арена, – ответила Ирина, – ты, наверное, будешь жить и работать в Петербурге – я уже говорила с Никитой Арсеньевичем. Мы уедем. Он, по – видимому, очень рад. Он тоже устал… Иногда, Левон, мне кажется, что он страдает… Тебе не кажется этого, Левон?.. Меня часто мучит это… Я хотела бы сделать его счастливым… Но странно, я ни о чем не могу думать… Мысли разбегаются… Он так далек… так далек… – Она сжала голову обеими руками. – Мы уедем к отцу в его саратовское поместье… Там глухо и тихо… Мы ведь богаты, Левон… Многие тысячи людей принадлежат нам. Я постараюсь сделать их счастливыми и свободными. Я дам им волю, если позволит государь, я устрою школы, больницы…
Ирина оживилась, ее бледное лицо разгорелось.
– А там хорошо, Левон, – мечтательно продолжала она, – там я провела свое детство. Там над самой Волгой стоит вся белая женская обитель. Там мир и тишина… Еще ребенком я любила призывный зов ее колоколов… когда издалека по реке тихо разносился благовест к вечерне, когда розовое сияние зари лежало на воде… я слушала и иногда плакала, сама не зная почему… С торжественным звоном сливались бубенчики стад, возвращавшихся домой… А в храме, когда косые лучи заката падали через высокие окна, и чистые голоса пели… Ах, Левон, там покой, там тишина…
Ирина опустила голову, и крупные, неожиданные слезы одна за другой полились из ее глаз.
Левон почувствовал, как сжимается его горло, и, наклонившись, прижался губами к тонким, прозрачным рукам…
Те смутные темные мысли, которые впервые появились у князя Никиты в Петербурге и которыми он однажды поделился с Левоном, которые с новой силой овладели им в Карлсбаде и на время оставили во Франкфурте, теперь, как черное облако, окутали его душу, застилали жизнь, не давали дышать. Это облако стало сгущаться непрестанно со времени похода во Францию. Смутные тревоги принимали определенную форму, и наконец с полной ясностью предстала перед ним правда. Эта правда заключалась в том, что Ирина несчастна. Он видел это, он чувствовал это всем своим старым, но еще жарким сердцем, своим умом, умудренным опытом долгой и широкой жизни. И, поняв это, он понял все. И бред Никифора, и красноречие Дегранжа, и мистические идеи, и теперь эту тихую покорность судьбе, самоотречение, жажду молитвенного уединения где‑то в глуши саратовской вотчины, и это медленное угасание. Она несчастна, но где источник ее страдания? Никогда ни одним намеком не жаловалась она на свой брак. Никогда раздраженное слово не срывалось с ее губ по отношению к нему. Она не увлекалась ни светской жизнью, ни общим поклонением. И вдруг!.. «Если бы я не знал Ирины, я бы мог думать, что сильное чувство овладело ею», – сказал он Левону еще в Петербурге. Ужели так? Она была или казалась счастливой, пока молчало ее сердце, но если оно заговорило… Но кто же? Ужели» он»? – думал князь. – Нет, этого не может быть. Красавец Пронский? Но Пронский всегда держался вдали. Или это временное настроение?.. Сколько раз, оставаясь с нею наедине, с бесконечной жалостью глядя на ее прекрасное, страдающее лицо, ему хотелось просто как ребенка утешить ее, спросить, отчего она несчастна, сказать ей, что ее счастье для него дороже жизни. Но как‑то совсем незаметно, день за днем, час за часом, они все дальше отходили друг от друга. И то, что было бы просто и естественно год тому назад, теперь казалось невозможным, и словно тайная боязнь чего‑то удерживала его. И никто из окружающих не замечал его настроения. Он только еще немного постарел, дольше оставался один в своем кабинете. Но на людях он был все тот же добродушно – насмешливый, ясный и спокойный; к тому же кочевая жизнь, важность совершающихся событий отвлекали от него внимание окружающих. Да они были и далеки от него. А Ирина была вся поглощена своими недоступными ему мыслями.
По приезде в Париж князь решил никуда не показываться, чему Ирина была чрезвычайно рада, но что очень не нравилось Евстафию Павловичу. Он не мог порхать целый день, собирая новости и сплетни, а их теперь было так много. Не мог щегольнуть великолепием своего выезда и царственной роскошью отеля, где они поселились. Жизнь в отеле внешне текла безмятежно и мирно. Гриша и Зарницын почти все время пропадали то на службе, то в театрах и кафе и, казалось, не могли надышаться воздухом Парижа. Герта, если не была с Новиковым, не отходила от Ирины, которую прямо обожала.
Ирина тоже заметно полюбила ее.
Почти каждое утро они ездили кататься по Парижу. Восторг Герты не имел границ.
– Но Берлин скучная казарма перед Парижем! – восклицала она.
Но Ирина была равнодушна и безучастна. Ни музеи, ни соборы, ни оживленные улицы и цветущие бульвары – ничто не выводило ее из состояния грустной сосредоточенности, что волновало и изумляло Герту. Ирина предпочитала сидеть дома.
Часто Герта садилась на маленькой скамеечке у ног Ирины, прижималась головой к ее коленям и просила Ирину рассказать о далекой России. И Ирина рассказывала ей. Она говорила о бесконечных лесах, о широких долинах, о многоводных реках, быстрых и светлых, о терпеливом народе – христианине, покорном, безропотном, ждущем только слова свободы, чтобы показать изумленному миру все сокровища своего духа и величавую мощь свою. Говорила о тихих церквах, затерянных в глуши убогих деревень, куда народ с несокрушимой верой приносил свои слезы и молитвы. Говорила о царственной роскоши вельмож, о великолепии двора, о красоте белых ночей северной столицы… С широко открытыми глазами Герта подолгу слушала ее, и жалкой казалась ей ее родина, ступившая на путь признания единого бога – бога грубой силы…
А на ковре, положив умную морду на вытянутые лапы, лежал Рыцарь и, казалось, тоже внимательно слушал рассказы о той чудесной стране, которая будет ему второй родиной…
Старый князь обычно за обедом подшучивал над Готлибом, уверяя его, что в нем нет ничего немецкого и что, наверное, он жертва подмены.
Готлиб обыкновенно грустно вздыхал и говорил:
– Старая Германия умирает. Великий Гете с орлиных высот слетел на нашест в курятник Веймара… Пора умирать…
Иногда по вечерам он играл на скрипке, и это было тогда настоящим праздником для всех. Но старик играл сравнительно редко, и его никто не неволил.
Внешне мирное течение жизни нарушил приход двоюродного брата Герты Курта с длинным Гансом. Курт, пробыв несколько дней в Париже, торопился уехать.
– А где же твоя невеста, Фриц? – спросила Герта.
Курт нахмурился, а потом рассмеялся и махнул рукой.
– Плохо дело, – сказал он, – ландштурмисты не пользуются никаким успехом у своих соотечественниц. Она обручилась с королевским гвардейцем.
Герта только всплеснула руками. Длинный Ганс, несмотря на ласковый прием, не находил себе места, кое‑как отвечал на расспросы, боялся сесть на стул и не мог справиться со своими руками и ногами. Он все норовил отойти в уголок, где нежно обнимал и украдкой целовал Рыцаря, который восторженно приветствовал его. Новиков во что бы то ни стало решил увезти Ганса в Россию и без особого труда убедил бунцлауского парикмахера. Он остался в отеле.
Тяжелое впечатление произвело на всех отчаяние старой Дарьи, когда она узнала о смерти Дюмона. Пользуясь знанием языка, она в конце концов нашла его могилу, но, к ее глубокому сожалению, оказалось невозможным отслужить на его могиле православную панихиду.
Всю коллекцию Дюмона старый князь решил передать в один из парижских музеев.
Последний раз тревога охватила главную квартиру, когда было получено известие, что Наполеон принял отчаянное решение поднять восстание и в сопровождении небольшого конвоя выехал из Фонтенбло по Оксерской дороге, направляясь в Бургундию. Тотчас Винцингероде было приказано отправить сильный отряд для его преследования, «нагнать его, схватить и доставить живым»…
Но известие оказалось ложным. Все успокоились, однако было решено не откладывать высылки Наполеона на Эльбу.
Левон был дежурным. Зарницын с Гришей, переодевшись в свои модные фраки, по обыкновению уехали в театр, прихватив с собою Евстафия Павловича. Утомленная Ирина рано ушла к себе, Герта с Новиковым скрылись в сад. Посидев вдвоем с Готлибом, старый князь тоже прошел к себе.