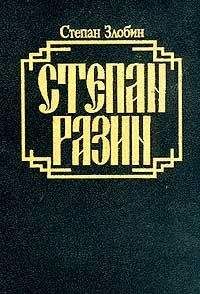Сердце его на мгновенье дрогнуло...
«Стало, не голову срубят, а четвертуют!» – понял Степан. Он посмотрел на Самсонку. Тот опустил глаза. Разин был готов к казни, но новых мучений уже не ждал больше. Теперь надо было снова собрать силы, чтобы перед толпою людей держаться по-прежнему твердо, как он держался в застенке во время пыток.
Дьяк стал читать приговор. Степан почти не слыхал его слов. Он весь был охвачен только одной мыслью, одним напряжением воли – держаться.
«... И ты, Стенька, вор и безбожник, презрев государеву милость и свою присягу...» – вливался в мысли Степана однообразный и нудный голос дьяка.
Вся многотысячная толпа слушала приговор, обнажив головы. Но люди собрались уже давно. Торопясь стать поближе к лобному месту, они стояли по пять, шесть часов, и пирожники, сбитенщики, квасники сновали в толпе со своими жаровнями, противнями, бочонками, угощая едой и питьем толпу зрителей... Впрочем, торг шел в молчанье, чинно, иные из продавцов и покупателей, даже не говоря, показывали на пальцах, что дать и сколько платить...
Площадь дышала зноем и человеческим потом. Вились роем мухи. Одна, назойливая, садилась все время на ссадину на виске. Степан ее хлопнул ладонью, и от резкого движения звон его цепи пролетел надо всей толпой.
Он уже овладел собой и знал, что не сдаст, как не сдавал до сих пор. Осторожно покосился на Фролку. Тот стоял, опустив голову. Над глазом его напряженно дергалось веко, по лбу, как рябь на реке, бежали морщины, но он не дрожал, держал прямо плечи. Руками крепко сжимал свою цепь.
Приговор перечислял все дела Степана: Яицкий городок, Персию, Астрахань, Дон...
Близкие лица товарищей и друзей вставали опять перед ним. Вот Иван Черноярец. «Был бы жив – не дал бы ты в цепях меня волочить. Ты бы добыл меня отколь хошь. Москву зашатал бы, Ваня! Зашатал бы ведь, а?!» – спросил Разин.
Запорожцы Боба и Наливайко, дед Панас Черевик, Максим Забийворота... «То мы с ними шли побивать панов. Потом они с нами – наших бояр побивать, а все и у них и у нас сидит панство. Не панов казнят – нас, казаков. Меня на Москве, других, может, в Киеве показнят, а панство повсюду осталось. Немало еще народу придется побиться, пока одолеет он панство по всей земле. Опять будут брать города, воевод казнить...» Степану представился пушечный гром, дым, знамена в дыму и грозный клич казаков, идущих на приступ... Дон, полный казацких челнов, Кагальницкий город, казаки на берегу стоят, машут, машут платками своим казакам, а вот и Алена Никитична... «Эх, Алешка!» – с грустью подумал Степан, жалея ее, и вспомнил о сыне.
«Жив ли ты, Гришка? – спросил Степан. – А когда жив, каким вырастешь ты казаком? Дорастешь ли, сынок, до битвы, или раньше погубят тебя?!»
Звонарь из черкасской церкви успел рассказать ему, что Гришка, проснувшись, когда уж Степана связали, видно, в тот миг, когда он был без сознания, схватил со стены отцовскую саблю и бросился на Петруху. За то его кинули в яму вместе с другими, кто бился в Кагальнике и кого удалось им схватить живыми...
Степан усмехнулся.
Припомнился ему и батька, Тимош Разя. "Как просто он умирал, израненный поляками, да так бы и умер, и только очнулся от гнева на атамана Корнилу... Спокойно старик умирал, потому что знал, что погиб за правое дело... а все ж не хотел умирать. Так и сказал: «Не хочу, а помру...»
«И я не хочу помирать, – подумал Степан. – А вдруг что стрясется и я не помру!» И тут же насмешливо остановил себя: «Ишь, хитра душа – щелку ищет, куда б ей бежать от страха. А я те за хвост – не беги! Страх – пустое. Страх для малых людей, а я вон как велик. Шел за правду. Помру – песни сложат казаки. Поедут в поход – запоют, и я заживу, как словно бы на коне между ними. И почудится им, что Степан Тимофеич меж них, возгордятся, скажут себе: „И мы таковы орлы!“ А любят люди собою гордиться. Поедут-поедут, опять запоют...»
Но самая мысль о смерти все же Степану была дика. Он взглянул на топор. Широкое свежеотточенное лезвие ярко блестело на солнце. «Знать, то тот самый топор, которым брата Ивана посекли...» Он представил себе, как этот топор вонзится в его шею, отрубит голову. «А дальше что?» И Степан не представил себе ни ада, ни рая, ни ангелов, ни чертей, а так, будто свалился в погреб или тулупом накрыли, – ничего не слыхать, ничего не видать, ни о чем не думать...
И вдруг он понял, что всю жизнь любил думать, что, может быть, в этом самое великое счастье. Слеп думает, глух думает, горбат, безрук, безног думает – пока живы, все думают, только мертвый уж думать не может...
«А много я думал, да все не додумал чего-то, – сказал он себе, – и времени осталось не больше, чем с комариный нос!»
Эта неожиданно пришедшая мысль удивила и растревожила Разина. Он старался не слушать назойливых слов приговора, который по-прежнему монотонно читал дьяк, чтобы эти слова не мешали его мыслям. Он старался прогнать от себя вдруг почему-то представший образ Прокопа.
«Вот тому помирать было страшно, – подумал он, вспомнив, как корчился Прокоп, заправляя руками кишки в разорванный черный живот. – А мне что? Я шел правым путем, делал правое дело, волю народу давал, никого не предал, себя не жалел. И ныне мне умирать легко!» – заключил Степан почти вслух.
"Ой, вру! Ой, нелегко! – поймал он себя самого. – Вот тогда бы легко, каб меня посекли, а правда моя одолела. Страшусь ведь того, что со мною и правду мою показнят... А как ее показнить-то?! – вдруг твердо и радостно спросил он. – Кабы правда была вся во мне, то с одной головою моей и в могилку пала бы, а правда моя в народе живет. Астрахань-город стоит – мой, Разин-город. Твердыня! А в ней-то народная правда...
Народ не собрать на плаху, народ не казнить! В той правде, которая в сердце народа вошла, в ней уж сила! Казни не казни, а правда взметет народ и опять поведет на бояр. Казни не казни, а правда всегда победна!"
Дьяк окончил читать приговор, и тысячи людей стали шептаться, чтобы перевести дыханье. Все понимали, что настает самый важный миг. Все глядели на Разина, а он даже не слышал последних слов приговора, не слышал он и того, что голос дьяка замолк, не видел взглядов толпы. Мысль о бессмертии и победности правды народной его озарила каким-то внутренним светом и прибавила сил.
– Что не каешься перед смертью, вор? – услыхал Степан голос дьяка.
Он огляделся.
Тысячи глаз впились в него со всех сторон. Чужие глаза стрельцов и рейтаров, дворян и бояр, сидевших невдалеке на сытых конях, разодетых, чванных, окруженных толпами слуг. За ними, там, дальше, стояло скопище «черни», той самой, которая так ждала его прошлый год на Москве. Кабы тогда подоспел, то на лобном бы месте стояли бояре, а он бы сидел вон там на коне да гладил бы бороду, как тот боярин...
«И вправду ведь каяться надобно в эком грехе, что попал я на плаху, да не повыбил боярское семя. Каяться, что не сумел одолеть их силу, что всю их неправду взвалил выводить другим...»
Разин шагнул вперед.
– Прости ты, народ московский! – громко воскликнул он и поклонился на все четыре стороны. – Кланяюсь я тебе, простому народу, винюсь я, что поднял тебя на бояр, да не сдюжил...
– Заплечный, верши! – испуганно взвизгнул дьяк откуда-то взявшимся тонким голосом. Он понял, что «покаянье» будет лишь новым призывом к восстанию.
Помощники палача подскочили к Разину. И, махнув народу рукою, он гордо, будто соболью шубу, скинул с плеч палачам на руки отерханные лохмотья, в которые был одет. Перед народом открылись раны, ожоги и язвы от кнута и щипцов, разъеденные солью.
Он стоял ростом выше всех палачей, с высокой богатырской грудью, широкий, прямой, с поднятой головой и смелым открытым взглядом.
«Пусть видит московский народ, каков был Степан Тимофеич. Кто видел, ведь детям и внукам сказывать будет», – подумал Степан.
Кузнец стал сбивать с него цепи. Над площадью раздался лязг. Народ, не поняв, что делается, вытягивал шеи, стараясь получше увидеть.
– Чего там творят? – крикнул кто-то.
– Железы сбивают. На волю хотят спустить! – насмешливо крикнул Разин.
– Молчи! – зашипел дьяк.
– А то показнишь?! – с издевкой бросил Степан.
Палачи его ловко свалили между двух досок.
Началось!
«Покажу, что не боязно человеку гинуть за правду. Пусть не страшатся, встают на своих бояр», – подумал Степан и сжал зубы, чтобы не выдать криком страданий.
Самсонка в красной рубахе склонился над ним, примерился и взмахнул топором.
Разин зажмурил глаза, но боль растаращила их, боль дернула тело от головы до ног, опьянила и помутила все мысли и чувства. Степан не крикнул, он только дышал тяжело и прерывисто, с хрипом...
«Отрубили мне руку», – понял он.
Время шло медленно. Разин открыл глаза. Рука лежала на колесе.
«Моя рука!» – сказал про себя Степан и вспомнил отрубленную руку Лазаря, павшую возле него на стол.
– Давай, – негромко позвал один из помощников палача, склонившихся возле ног Степана.