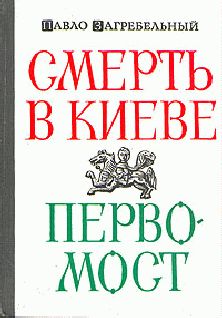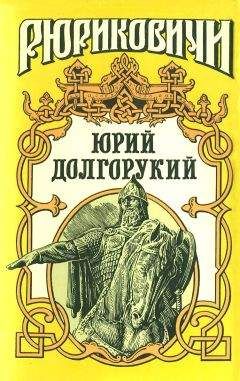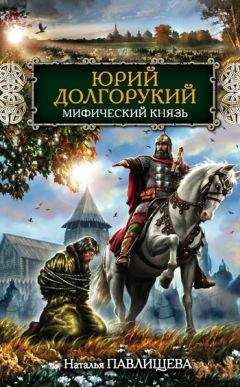Но кто сказал, что надежды суждены лишь князю? И если бы взять всех тех людей, которые пришли под Переяслав с Долгоруким, от знатнейших князей и воевод до простых воинов, от высокородных дружинников до диких половцев, от непоколебимых в битвах, поседевших в походах мужей до суздальских жен, которые с тревогой ожидали в обозах позади войска, чем закончится великий поход Юрия, а следовательно, и их поход, то надежд было бы еще больше, чем самих людей, ибо у каждого нашлись бы надежды явные, открытые, а также стыдливо или же зловеще скрытые, были бы надежды дерзкие, часто грубые, безжалостные, а рядом с ними - несмелые, иногда и просто смешные.
Наверное, смешным казался и тот дружинник Юрия, который послужил причиной для начала рати между полками Изяслава и Долгорукого, смешным до боли и отчаянья. Уже три года искал он смерти и не находил. Три года терпел глумление над собой, забыл собственное имя Вырывец, ибо прозвали его Вырвикишкой с тех пор, как вражеская стрела прилетела и оборвала то, что необходимо мужчине, и он возвратился к своей молодой и пригожей жене Оляндре неведомо зачем, потому что перед богом вроде бы и оставался мужем Оляндры, а удержать ее возле себя не имел возможности. Оляндра пошла по рукам, изменяла Вырывцу не таясь, смеялась вместе со всеми, как и все, называла мужа Вырвикишкой, а для того, чтобы еще больше поиздеваться над ним, настояла, чтобы он взял ее с собою в Киев, хотя и знал Вырывец, что берет жену не для себя, а для других.
Оляндра сидела в товарах, бесстыдно приманивала к себе молодых мужчин, а вдобавок еще и распускала всякую клевету на собственного мужа.
Вырвикишка не слыхал Оляндриных небылиц, но ему пересказывали их, изрядно добавив от себя о прелюбодействах Оляндры, а ему нечем было ответить, разве что собственной смертью, но смерть сама не приходила, он мог бы найти ее лишь в битве, однако и тут получалось так, что у странного этого князя Юрия вряд ли можно дождаться битвы.
Вырвикишке помог Изяслав, перейдя Трубеж и приблизив свои полки к полкам Долгорукого. Казалось - вот и начнется настоящее, ради чего они пришли сюда из далекого края, шли много месяцев, выстаивали, собирали силу, мокли под дождями, жарились под солнцем, доедали последние свои запасы, взятые еще из Суздаля, шли сильные тем диким восторгом, который охватывает люд, собранный вместе. Но битвы не было. Долгорукий сдерживал свои полки, Изяслав же при всей своей наглой запальчивости тоже не отваживался напасть первым.
И вот тогда Вырвикишка на глазах у всех вырвался из рядов дружины Юрия верхом на своем вороном коне, сам черный, как и его конь, и вельми с виду грозный; он выскочил внезапно, вылетел вперед, сбив с толку дружинников, рядом с которыми смирно и терпеливо стоял столько дней, и изо всех сил погнал коня прямо на дружину Изяслава.
Ясное дело, всякое могло случиться с человеком от долгого стояния на солнце: мог просто ошалеть, могло опротиветь ему все на свете, а может, неожиданно для самого себя вознамерился перекинуться к врагу. Однако последнее предположение сразу отпало, потому что Вырвикишка, проскакав малость, достал из ножен меч и неистово замахал им над головой, словно хотел своим оружием напугать киевскую дружину или же, быть может, вызывал охотника сойтись на поединок, как это заведено было среди богатырского воинства.
Как бы там ни было, этот бестолковый дружинник разбивал мирные намерения Юрия, поэтому Долгорукий немедля крикнул своим воинам:
- Вернуть болвана!
За Вырвикишкой, откровенно посмеиваясь, бросились его товарищи, стража Изяслава всполошилась, крикнула "Рать!", в киевском стане ряды дрогнули, сломались, полки двинулись вперед, и в печальном свисте стрел несчастный Вырвикишка легко нашел то, чего искал и жаждал вот уже длительное время: вечный покой.
Долгорукому тоже пришлось выводить свои полки супротив Изяслава, но суздальский князь еще и теперь не хотел кровопролития, еще верил, что достаточно лишь показать силу, а не применять ее; дружинники, гнавшиеся за Вырвикишкой, возвратились назад, один лежал мертвым между полками, больше, казалось, не было охочих умирать, и так вот снова закончился день, и Юрий велел отходить назад, к обозам, где держал берладников, остерегаясь выпускать это неудержимое войско вперед, чтобы оно преждевременно не наделало беды.
Ничто не действует так ободряюще, как бегство противника. Тогда одним хочется возвратиться на отдых, а другим, более предприимчивым и неудержимым в схватке, охота погнаться за врагом, ибо каждый поворот плеча они считают бегством. Изяслав не принадлежал к спокойным и рассудительным. Отступать ему было некуда, потому что позади ждали его четыре Николы, все ненасытное боярство киевское, а впереди была слава и власть, которую он добудет еще раз, показав перед всеми превосходство свое теперь уже над своим могущественнейшим врагом.
И в сумерках, между кудрявыми вербами, по зеленым сочным травам повел Изяслав свои полки следом за Долгоруким, так что тому пришлось возвращаться назад и снова останавливаться насупротив киевской силы. Он поставил сыновей по правую руку, Ольговичей - по левую, половцы блуждали вокруг, неуловимые, будто степные чуткие звери, берладники где-то залегли за обозами, на киевской стороне никто еще и не ведал о них, все это наполняло покоем не только сердце князя Юрия, но и всех его воинов, потому и дождались они рассвета, когда началась битва и падало множество убитых с обеих сторон, и так страшно было смотреть, как на конец света. Так записал Петр Бориславович.
Силька, испуганно метавшийся на коне позади полков Долгорукого, со временем запишет об этом утре, озаренном августовским неистово-пронзительным солнцем, которое взошло над переяславскими дубравами: "Был там стон и крик великий, и голоса неведомые, и можно было видеть ломание копий и слышать стук оружия, а от сильной пыли не различая ни конного, ни пешего, и так бились крепко..."
Быть может, это в первый и в последний раз на долгом своем веку пришлось Долгорукому очутиться среди сечи, рубился он рядом со своими дружинниками яростно и мужественно, бились по правую руку от него сыновья, терзали половцы поршанские полки черных клобуков, и поршане не выдержали и первыми побежали с поля битвы, ибо им не за что было биться, от Изяслава не ждали ничего, пришли сюда, лишь гонимые озлоблением против половцев, но победить степняков не могли здесь, потому-то и бросились врассыпную, ибо позор от бегства был не их, это был позор князя, натравившего друг на друга два бедных народа, которым надлежало бы жить между собой в мире и согласии, ибо пришли на эту землю из тех же самых пустынь и, быть может, одна и та же кровь текла в их жилах.
Не выстоял и черниговский князь Изяслав Давыдович, которому тоже, собственно, не за что было биться, и он выжидал, кто пересилит, чтобы своевременно отвернуться от побежденного.
Переяславцы как стояли, так и остались стоять, шум битвы их не привлекал, они не хотели ударять в спину Изяславу, но и против Юрия идти не намеревались, покрикивая гонцам Изяслава, которые передавали веление киевского князя вступать в битву: "Юрий нам князь свой! Давно бы уже надлежало стать, под его руку!"
У Изяслава была еще надежда на братьев, которых он послал на дружину Юрия, сам выбрав для удара Ольговичей, - во-первых, чтобы поквитаться с ними за отступничество от крестного целования, а главное же - в надежде на то, что не выдержат его натиска, боясь недавних еще воспоминаний о том, как бил их у Сейма и Десны. И Ольговичи в самом деле не сдержали дружины Изяслава, она прорубилась сквозь их полк, проскочила за спину суздальцам и начала собираться вместе в неодолимый "железный орех", чтобы оттуда внезапно нанести удар и резко изменить ход битвы в свою пользу. И наверное, удачливый Изяслав и на этот раз торжествовал бы победу, но не успел он собрать воедино свою распыленную недавней схваткой дружину, как вдруг заметил, что со всех сторон его окружают какие-то странно-пестрые воины, каких ему никогда еще и нигде не приходилось видеть. Первоначально, пока сам он и его дружина на полном скаку удалялись от поверженных полков Ольговичей, распаленные кровавой жатвой, оставленной после себя, им казалось, что вокруг словно бы ничего и не изменилось. Позади клокотала битва, где-то далеко впереди за валами должны были бы прятаться обозы Долгорукого, а тут были зеленые травы и купы верб, будто зеленый дым, но вот неожиданно что-то изменилось вокруг, дружина еще скакала вперед, но мгновенно как бы не стало ни трав, ни верб, ничего - все вокруг забурлило, закипело, засверкало, резануло невыносимыми, как огонь, красками, звонким криком, дружина князя углублялась точно в гигантский рой, но не пчелиный и не птичий, а если так можно сказать, дьявольский, что ли. Сто, а может, тысяча, а может, и десять тысяч наводящих ужас всадников, не похожих ни на обыкновенных воинов, ни на диких, черных половцев, не похожих и друг на друга (может, именно в этом и заключался весь ужас этого натиска), в какой-то пестрой одежде, со свистом, ревом, улюлюканьем, хохотом, размахивая огромными мечами, выставляя вперед невиданной длины копья и ратовища, мчались отовсюду на дружину Изяслава, намереваясь сбить ее в мяч, как ворон сбивает галок или мальчонки - коровью шерсть. И вот дружина, которая только что намеревалась собраться воедино, чтобы ударить в спину полкам Юрия, а теперь и тем более должна была бы сплачиваться для отпора этим странным воинам, бросилась врассыпную, потому что каждому казалось, будто именно на него мчится озверелый кричащий великан, а может, и не один, а два или же три, и единственное спасение - проскользнуть между ними, вырваться на вольный простор и гнать изо всех сил отсюда, не останавливаясь до самого Днепра. Самому князю Изяславу тоже показалось, будто прямо на него летит невиданных размеров всадник, весь в красном, будто облитый кровью, и меч, который он держит над головой, так же светится кроваво, как и его одежда, и от этого жуткого видения князь забыл о своем намерении собрать дружину, забыл о битве, которую хотел выиграть, забыл обо всем, что там, позади, погнал своего коня в сторону от красного всадника, бежал вместе со своей дружиной и уже не видел, как бегут за ним все киевские полки, как пошло врассыпную все, хотя никто из суздальцев и не преследует их.