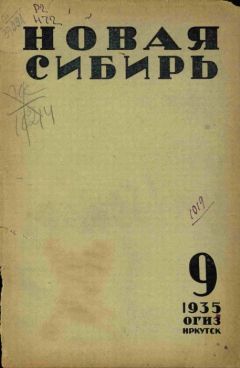Но стрелочник и все те, у кого в глазах при виде удаляющегося поезда пряталась ненависть и чьи сердца горели местью, сдерживались: в конце поезда прицеплены были две теплушки, в которых его сиятельство, ограждая себя от всяких бед и неожиданностей, вез заложников...
59
Неизвестный человек пришел и принес письмо. Он тщательно расспросил и убедился, что имеет дело с женой учителя математики Андрея Федоровича Михалева, Гликерией Степановной, и только тогда вручил ей письмо. И тотчас же ушел.
Гликерия Степановна, недоумевая и тревожась, вскрыла конверт и вынула из него паспорт Андрея Федорыча. К паспорту была приложена маленькая записка в три слова: «Спасибо. Помог хорошо».
Гликерия Степановна почувствовала, что все внутри в ней потеплело от радости. Ненужно и неизвестно отчего, у ней навернулись слезы. И, еле сдерживая их, она прошла к мужу и протянула ему паспорт:
— На вот... Все благополучно!..
Она не глядела на мужа, она не видела его лица. Она видела другое. Ей представилось, что тот, неизвестный ей революционер, которому помог паспорт мужа, в какие-то минуты вспомнил о ней и сказал, может быть, про себя: «И эти люди могут быть чем-нибудь полезны!..»
— Видишь, — мягко и задушевно заметила она мужу, — и мы можем быть чем-нибудь полезны!..
Потом громко позвала:
— Бронислав Семенович!
И когда Натансон вышел из-за ширмы, где стояла кушетка, на которой он спал, Гликерия Степановна радостно поделилась с ним своею удачею.
Но предаваться радости было некогда. У Гликерии Степановны было еще одно важное дело. Она вгляделась в желтое лицо Натансона, покачала головой и упрекнула:
— Вы, Бронислав Семеныч, не распускайте себя! Помните, что нам еще Галочку надо переотправить в надежное место...
— Я помню...
— Ну, вот!.. Вы бодрее!.. Она поправится! Непременно поправится! Ее через неделю и выпроваживать из города можно будет... Видите, вот как с паспортом все хорошо обошлось!..
— Я вижу... Я, Гликерия Степановна, вовсе не падаю духом... Вы знаете, я поеду с Галей... Я ее сберегу...
Ничего не ответив ему, Гликерия Степановна еще раз внимательно посмотрела на него. Правда, за последние дни она заметила, что Натансон как-то переменился, стал не таким растерянным и робким, как всегда. Пожалуй, ему можно доверить сопровождать Галочку...
Уйдя к себе и оставшись одна, Гликерия Степановна разгладила перед собою записочку с тремя словами и перечитала ее во второй раз.
Перечитала и задумалась.
Ей представились эти люди, которые, не взирая на опасности, которые ничего не боясь, ничего не жалея личного, продолжают борьбу. Она наклонила голову и вздохнула.
«Какие люди!.. — прошептала она. — Какие удивительные люди!..»
И сладкая тоска нахлынула на нее. Сладкая тоска залила ее. И жалость, которую она питала ко многим, к этому уехавшему, к Павлу, к Галочке, сменилась чувством зависти: Гликерия Степановна поняла, что рана Галочки заживет очень скоро, что девушка найдет утешение в работе, что жизнь пред Галочкой и пред тысячами ей подобных только развертывается. Жизнь и борьба...
И она снова глубоко, глубоко вздохнула...
60
Ночь проходила.
В тюрьме ночь была тревожной и тягостной. В камерах многие долго не могли заснуть. Многим все время чудились подозрительные, тревожные и зловещие стуки и шорохи. Многие беспричинно вздрагивали и отворачивались от соседей.
Никто не знал и не мог знать, что творится в закоулках тюрьмы. И все подозревали, что в глухую ночь совершается что-то непоправимое и темное.
К рассвету люди понемногу успокаивались. Рассвет вставал тусклый, серый, холодный.
В одиночках тишина была глубже и тягостней, чем в общих камерах.
Лебедев вслушивался в эту тишину и думал об одном: о побеге. Лебедев понимал, что бежать невозможно, но мечта о воле, о работе на свободе была неотвязна и думать о побеге было отрадно. И когда через толстые стены камеры доносились неуловимые и непонятные звуки, какими всегда полна тюрьма, Лебедев гнал от себя зловещие догадки и предположения...
К рассвету Лебедев уснул. Но спал не долго. Что-то внезапно разбудило его. Он поднялся на койке, взглянул на тусклый четырехугольник окна, перечеркнутый решеткой, прислушался. Он ничего не услышал, но ему показалось, что где-то поют, что песня звучит тихо, но бодро, что звенят литавры и крепнут голоса труб. Ему показалось, что в одиночку его вместе с тусклым, больным светом зимнего рассвета втекают звуки веселых голосов, что голоса эти поют о силе, о свободе, о борьбе и о радости борьбы.
Он вышел на средину одиночки, поднял голову к окну. Да, окно светлеет. Вот чуть-чуть потеплели пыльные стекла. Вот от прутьев решетки пала расплывчатая тень на скошенный подоконник.
Лебедев застыл. Видят ли это все товарищи, вместе с ним сидящие здесь, в тюрьме? Слышат ли они? Чувствуют ли?!.
Выбросив вверх руки, Лебедев положил ладони на голову и взъерошил спутанные волосы. Потянулся, облегченно вздохнул:
— Ничего!.. — громко сказал Лебедев. — Ничего!..
Окно стало совсем светлым. Тени от решеток сделались черными.
За дверью, за толстыми стенами окрепли живые, реальные звуки. Зашевелились люди.
Тюрьма просыпалась...
61
В серой полумгле предрассветной поры человек двигался по улице как призрак, как тень.
Человек приникал на мгновенье к забору, к витрине и шел дальше. И исчезал. А после него на заборе, на витрине оставалось свежее белесое пятно.
Так человек обходил городские улицы. Как призрак, как тень...
И когда серая предрассветная мгла рассеялась, разогнанная медленно, но властно встающим утром, белесые пятна выплыли на заборах, на витринах ярче и определенней. И первые, зябнущие на утреннем морозе пешеходы, увидя эти новые пятна, останавливались возле них и читали:
«Пролетарии, всех стран соединяйтесь!..»
Иные сразу же, с опаской оглянувшись кругом, уходили прочь от этих мест. Иные останавливались подольше и читали до конца.
Потом, когда они уходили, то уносили в своей памяти, в своем сознании незабываемые слова:
«...Свыше двух тысяч пятисот жертв — убитых и раненых полегло в Москве, десятки взятых в плен хладнокровно расстреляны палачами в окрестностях Москвы, сотни убитых в Ростове и Бахмуте, многие десятки в Сормове, Перми, Красноярске, Иркутске, Чите, Саратове, Ярославле, Харькове, Твери, бесчисленное количество жертв в Прибалтийском крае. Тысячи и тысячи граждан брошены в тюрьмы; такова обещанная царем «неприкосновенность личности», таково значение объявленной им амнистии! Палачи справляют кровавую тризну, разрушая артиллерийским огнем целые города... Горе земле, по которой пройдут отрепья царских опричников!.. Пусть купаются они в крови народной!.. Непродолжительно будет их торжество! Декабрьские славные дни глубокую борозду проведут в сознании народа, и память о московском восстании сделает чудо — вольет новые силы, новую мощь в истомленное тело революционного народа!..
Во имя погибших на баррикадах мучеников не прекращайте борьбы!.. Близок день, когда снова по всей Руси раздастся боевой клич!..
Готовьтесь же к этому дню: пусть он не застанет нас не готовыми!..»
Незабываемые слова уносили в своих сердцах люди, читавшие эту прокламацию, дерзко расклеенную в предрассветной мгле человеком, скользившим по улицам, как призрак, как тень...
А утро наливалось светом. Утро окрашивалось отблесками далекого солнечного пламени. Где-то за крышами домов, на востоке неотвратимо и неизменно вставало солнце. Где-то бушевали яркие огни. Где-то пылал ослепительный, неомрачимый свет. Где-то вставал и шел сюда спелый, сияющий день...
И день этот разгорался...
Иркутск, 1930-1935 гг.
Так в бумажной книге 1935 года. В наши дни этот глагол пишется: «прикорнул».
Помещение для взвешивания товаров (от старинного слова «вага», означавшего «весы»).
Schwester (нем.) – сестра.
Bast (перс.) - в Персии место, дающее всякому преследуемому властью право временной неприкосновенности (мечеть, иностранное посольство и др.)