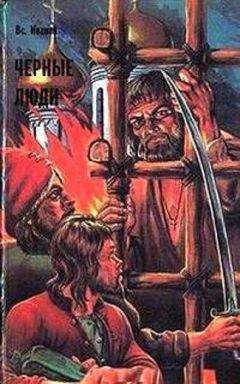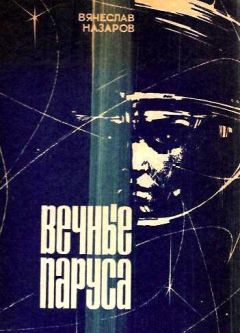Правду говорило то письмо, одну истинную правду! Сказывало въявь все тяготы, что народ терпел от медных денег, от хлебной дороготни, от сборов денег на войну, а Василий-де Шорин снова требует пятой деньги. Народ устал от воровских денег, что чеканит себе царев тесть боярин Милославский с дядей царя Матюшкиным, поминали тут и Федора Ртищева, что все то медное дело удумал… Всех и все знал народ!
— Идем к царю! — выкрикивал Куземка. — Пусть государь укажет, как с теми ворами быть… Пусть он выдает их народу. Все идем! Всем миром! В Коломенское!
Такие прелестные листы появились не только на Лубянской площади, а во многих местах; люди волновались, хватали все, что попало под руку, — топоры, дубины, палки, чеканы, ножи. Люди уговаривали друг друга идти, тянули за рукава, тащили робких со дворов, из лавок, за отказ грозили смертью… Пропадать — так всем!
И когда солдаты Гордона выбежали за Серпуховские ворота, вся дорога на Коломенское была уже сплошь забита бегущим народом, шумно выкрикивавшим неистовые поносные слова, угрозы, потрясая дрекольем. И чем дальше бежал Гордон, тем больше верил он, что на этот раз ему повезет.
В Коломенское, однако, побежал народ не весь, много и осталось, — метались по улицам Москвы, искали своих обидчиков: Милославского, да Матюшкина, да Ртищева богомольного, да Богдана Хитрово, да Стрешнева Родиона Матвеича, да купцов Шорина да Задорина. Милославский, Матюшкин, Ртищев жили в Кремле, туда ворота были закрыты, а на стенах и башнях стояла сторожа. Ртищев все же позвал попа, исповедался, приобщился на всяк раз, готовясь к смерти. Сбежал в Кремль и Василий Шорин, спрятался во дворе Милославского. Скрылся куда-то Задорин, двор которого оказался разнесен, разграблен в доску первым, потом толпа покатилась к дому Шорина.
Во дворе у Шорина схватили его молодого паренька — сына Бориску. Перепуганный юноша подтвердил, что-де верно, его отёц вел дела с литовскими людьми, знал о том, что ссылались с ними и бояре. Толпа взревела, парня схватили, связали, бросили в тележку, и работавший в то утро в Москве извощик Мишка Бардаков повез добычу в Коломенское, к царю, народ бежал за телегой.
Измученный жарой, жаждой, пылью, народ уже добегал до Коломенского, гудел по мосту, заливал зеленые лужайки перед Вознесенской церковью, где шла царская обедня. Боярин Стрешнев шепнул царю, что из Москвы прискакал воевода князь Хованский Иван Андреич, что идет взводнем народ.
Царь появился, стоял на гульбище высоко за белокаменным парапетом, подняв на черном посохе правую руку с сверкающим перстнем, приветно улыбался: без улыбки нельзя было в такую минуту — улыбка утишала ярость толпы. Потом снял рудо-желтую шапку с блестящих кудрей и низко поклонился.
Медленно, по частям, словно раздумывая, толпа стала валиться на колени.
Перед ней стоял ее живой бог во плоти. Царь!
Тихим обычаем заговорил царь, ласково, заботливо справился об здоровье народа, и толпа слушала бархатный голос.
— Пошто народ наш пожаловал в село наше Коломенское? — спрашивал царь. — Пошто вызвали меня с божественной литургии?
Надо отвечать, а как отвечать, когда слов нет, когда душат гнев и обида, горячие как огонь?
Можно только вопить, кричать, а как кричать, когда крик того гляди испугает эту сладкоглаголивую золотую птицу — царя?
И десятитысячная толпа вопила, стоя на коленях, вытягивая руки, прося у него, своего отца, помощи. Нам известно и имя человека, который, поднявшись по крутой белокаменной лестнице Вознесенья, поднял высоко шапку, сунул в нее бумагу и, став на колени, подал челобитье в белую руку царя.
Это был Лучка[154] Житков, сретенской сотни тяглец. Смокшие в поту русые волосы его прилипли ко лбу, борода свилась веревкой, загорелая рука дрожала, когда он произнес обычное слово:
— Царь-государь, смилуйся, пожалуй нас, твоих людишек…
Царь, наклонившись, принял из шапки бережно истерзанную гвоздями бумагу и, не оборачиваясь, сунул ее через плечо, а. услужливая рука Стрешнева схватила ее.
Только ее и видели!
Но царь челобитье принял, — стало быть, народу нужно уходить. Притихшая на миг толпа взвыла в отчаянии, над головами взлетели палки, сверкнули топоры.
— Государь! — в голос вскричал стоявший за Лукой нижегородский человек Мартьян Жедринский. — Не годится эдак, государь! Прикажи, чтоб челобитье то вычли перед народом… То правда наша!
— Я разберу! Я укажу! — говорил царь, улыбаясь во все стороны.
— Чти враз! — кричали уже со всех сторон. — Погибаем мы! Выдай нам тех изменников, воровских бояр! Казни перед нами смертью!
— Я разберу! — кричал и Алексей Михайлович — Я укажу! Ступайте с богом в Москву!
— Не верим! — гремело в обрат. — Обманываешь, царь! Воруешь!
Царь сверкнул глазами, — ему, самодержцу всея Русии, каково было слышать такие слова!
А Мартьян Жедринский, нижегородец, чернобородый красавец, гонявший по Волге торговые струги, шагнул вперед, схватил царя за золотую, с самоцветом пуговицу:
— Стой, государь! Не уходи не договорившись! Ударь с нами, с народом твоим, по рукам, что дашь нам суд да правду. Учинишь сыск, казнишь измену… Кому ж нам верить, как не тебе?
Народ занимал теперь все крыльцо, лестницы, гульбище, народ окружал царя, теснил его, дышал на него луком, чесноком, водкой, потом, пылью, руки уже щупали парчу царского облачения, глаза, озорные глаза, испуганные глаза рассматривали царя в упор, как чудо, мужики оттирали ближних бояр.
— Сей же час буду на Москве, — говорил царь тревожно, но все же с улыбкой. — Буду, ей-ей! Идите, люди, в Москву! Я разберу дело. Учиню сыск… Укажу! Богом клянусь, накажу измену…
— Даешь рукобитье, царь! — гремело вокруг. — Бей по рукам, коли не врешь! Эй, рукобитье!
— Добро, — вымолвил наконец царь и протянул руку. Белая, пухлая, в жемчужном запястье рука легла в широкую, твердую ладонь нижегородца.
— Народ! — крикнул Жедринский, перегибаясь через парапет. — Народ московский! Гляди! Бью с царем по рукам!
И он поднял обе руки в рукопожатии над гульбищем…
— Слава! Слава! Москва! — загремели крики снизу. — Здрав буди, государь…
— Народ, — кричал Мартьян, — царь-государь со мною, черным мужиком, ударил по рукам! Сыщет он, государь, накажет воров. Народ, идем в обрат в Москву, государю молиться надо. Иде-ем!
И, решительно расталкивая толпу, нижегородец стал первым спускаться с лестницы, за ним двинулся Лука Житков, сумнительно разводя руками, бормоча под нос. В его простую, неискушенную голову стучался впервые ставший перед ним вопрос:
«А как обманет царь? Что тогда? Куда деваться?»
Но верить всегда легче, спокойнее, чем не верить, и в толпе над гульбищем началось движение, взлетали лихо надеваемые шапки.
— Наша взяла! Расходись! Чего там!
Царь, подняв брови, угрюмо смотря себе под ноги, медленно повернулся, чтобы войти в храм, — вокруг него толпились только ближние люди: Хованский, Ромодановский князья, Стрешнев — все свои. Царь огляделся — Хованский сунулся к нему.
— Князь Иван Андреич! — сказал государь. — Пошли вершных в Москву, шли бы сюда стрелецкие полки наспех!
— Посланы, государь, ускакали!
— А ты, Семен Родионыч, скачи в город… уговаривай людей. Скажи народу, обещай — сыщу виновных! Что там Куракин делает?
Алексей оборотился к иконам, тем самым, которым молился когда-то царь Иван. Ай-ай, что случилось! Народ бушевал здесь, в Коломенском, словно в Новгороде на вече. У Грозного была опричнина, верные люди, такого бы они не допустили. А у него, царя Алексея, нет верных людей… Стрельцы Кремль берегут да боярские дворы, а его, царя, гилёвщики сегодня было поймали, как воробья шапкой.
И гнев снова сжал царево горло.
— Худые мужичонки-вечники! Гости московские опять собора требуют. Страдники! Меня, царя, за пуговицы хватают, руку цареву бьют, псы!
После шепотов среди ближних людей под правой царевой рукой наперло брюхо стрешневское, Родионова, а у щеки защекотала мягкая борода, запахло гуляфной водкой[155].
— Государь, ин изволь враз в Москву ехать… Как бы больше дурна не было! Надо в Москве сыскать, кто бунтует… похватать воров.
Стрешнев, замолчав, косился на царя. Маячит под волосами розовое маленькое ухо, сам-то молчит, слышно только — дышит, сопит…
— Гиль по Москве великий идет. Дома твоих верных слуг разбивают… Стрельцы с гилевщиками… Как бы опять пожара не было, как прошлый раз.
Молчит царь, сопит.
— Надо иконы поднять, митрополиту Питириму с властями[156] на Лобном месте служить.
Что-то дрогнуло на царской щеке. И слышно — говорит царь:
— Давай коней! Скачем… Караулы московские упредите — ворота бы в Кремле враз открыли.
Стрешнев сунулся было бежать, да царь схватил его за рукав: