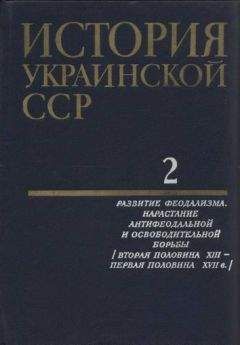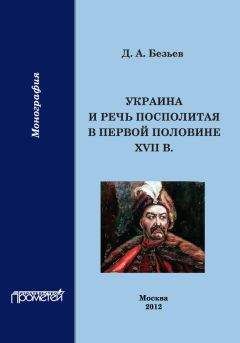II
I
В казацком лагере уже весело звенели трубы, кобзари слагали новые песни, разгоряченные боем казаки ходили, как пьяные, у них сияли глаза, радость победы в первых схватках распирала грудь. У костров под музыку отплясывали гопака или бойкую метелицу, быструю дудочку или горлицу. Не было только среди танцующих Метлы. Казак Метла, держа коня за поводок, ходил по лугу между трупов и искал своего побратима Пивня. Уже вечер наступил, высыпали на небе звезды, а Пивня не было ни среди живых, ни среди мертвых. Неисчислимые богатства лежали перед Метлой на убитых шляхтичах, но он не взял даже платка, чтобы перевязать себе пораненную руку, и с опущенной на грудь головой поплелся в свой лагерь.
В это же самое время казак Пивень сидел в польском обозе с цепями на руках и ногах и горестно раздумывал о Метле. Он своими глазами видел, как на его побратима насело сразу несколько драгун, и раз его нет сейчас здесь, среди пленных, — его, видно, зарубили. Пивню было обидно, что не удалось помочь Метле. Уже и бросился, уже и заколол какого-то пана, преградившего ему путь, как вдруг конь под ним споткнулся и упал. Пивень стал выпутываться из стремян, а тут гусар с мечом так и пригвоздил его к земле. Хорошо еще, что зацепил только за ребро. Теперь его судьба зависела от расположения духа князя Заславского, который был за гетмана коронного: возьмут верх казаки — разгневается и прикажет отрубить голову Пивню. То же самое он может сделать и на радостях: дескать, теперь мы ничего не боимся.
— Господь всевышний! — вздохнул он тяжко. — Чем я перед тобой грешен? Что я, горилки не пью, или жинку не бью, или в корчме торгую, или в церкви не бываю? За что ж ты меня так тяжко караешь?
— А за то, чтоб ты, собачий сын, — пробормотал из-под воза одутловатый белоцерковский есаул Макитра, — не богохульствовал. Головы тебе не жалко?
— Мне вот сорочки жалко, пане есаул, она у меня одна, и лях ее мечом распорол. А не станет головы, тогда и сорочка не понадобится. Эх, милый человек, вижу, бедный ты...
— Это ты, свинопас, бедный — вон пузом светишь. А у меня есть и сад, и ветрячок, и скотины разной немало.
— Я ж и говорю: наверно, жаль с таким добром расставаться.
— А еще бы не жаль!
— Вот ты мне часть и откажи: сразу полегчает.
— Кабы ты придумал, как нам отсюда убежать, я бы и копы денег не пожалел.
— Ну и щедрый же ты, пане есаул, — засмеялись пленные казаки.
Большинство из них было порублено, лица залиты кровью, кровь запеклась на ранах, которые никто не перевязывал. Единственным лекарством была земля. Ее, черную, рассыпчатую, казаки брали из-под ног и, смешав со слюной, прикладывали к ранам.
— Брось залеплять — уже не прирастет! — сказал Пивень, глядя, как молодой казак бережно замазывал землей разрубленную, уже еле держащуюся посиневшую руку.
Казак, глядя грустными глазами, покачал головой, потом отрывисто спросил:
— Нож есть?
— На!
Когда рука превратилась в культяпку, казак, покрытый холодным потом, бессильно откинулся на камень.
— Вот уже и готовый калека, — произнес он горько.
Польские жолнеры, приставленные для охраны пленных, не обращали на них никакого внимания. Им было куда интереснее заглядывать в шатры, где пировало вельможное панство.
К князю Доминику Заславскому собрались все три рейментаря, воеводы и сенаторы. Был там и Адам Кисель, который привел казацкую хоругвь, набранную с большим трудом. Он был единственный православный среди католиков и чувствовал себя незавидно. Разговор шел о сегодняшнем бое, от которого еще гул стоял в ушах.
— Нет, вы скажите, панове, откуда Богун мог узнать, что в овраге была засада? Погонись он за хоругвью пана Барановского, от его полка остались бы только рожки да ножки, — говорил хорунжий коронный Конецпольский. — Я же нарочно приказал пану Барановскому отступать.
— А почему бы и не знать Богуну, пан рейментарь, — сказал стражник коронный, — ведь пан Кисель десять казацких шпионов укрывает в своем обозе.
— Как укрывает?
— А куда же смотрит пан стражник? — закричала шляхта.
— Пан Лащ смотрит, как бы только меня оклеветать, — ответил с кислой миной Адам Кисель. — В обозе я вынужден держать заложников, которыми до сих пор не обменялся с полковником Кривоносом. А что у меня может быть общего с повстанцами, которые выгнали меня из моих поместий, а поместья разграбили? Или там, может быть, есть дворяне, с которыми бы я нашел общий язык? Напраслину ты на меня возводишь, пане стражник, и только причиняешь мне неприятности за мои старания, за мои услуги.
— Сделаем вид, что поверили, панове, — сказал с иронией князь Лянцкоронский.
— Панове, панове! — воскликнул князь Заславский. — Сегодня у нас есть лишний повод осушить бокалы — мы держим победу в руках! Я уже молил бога, чтобы он не помогал ни нам, ни казакам, а только смотрел, как мы намылим шею негодному хлопству.
— Я головой ручаюсь, — поспешил выкрикнуть и Александр Конецпольский, — что завтра в порошок сотру казаков!
— Ясновельможное панаво, — зашамкал беззубым ртом подчаший коронный Николай Остророг. — Гениальность стратега, говорят мудрые люди, проявляется в том, что он ведет бой и выигрывает его искусством тактики. Это показали сегодня мы. — И он снисходительно кивнул в сторону своих коллег — князя Заславского и хорунжего Конецпольского. — Мы, панове, выиграли битву с казаками благодаря прекрасным нашим жолнерам, а главное — благодаря молодой энергии наших полководцев...
Шляхта шумно закричала: «Виват! Виват!» Заславский и Конецпольский раскланивались как бы в шутку, но весьма усердно.
— Подвиги наших полководцев, — продолжал Остророг, — особенно в сегодняшнем бою, напоминают мне подвиги Мильтиада при Марафоне, Павзания при Платое, Эпаминонда при Левострах, Ганнибала при Каннах, Сципиона при Нарагарре и Цезаря при Фарсале...
Чем дальше говорил Остророг, тем сильнее выступало на лицах рейментарей чванливое самодовольство; один только князь Иеремия Вишневецкий нервно кусал кончик уса.
— Есть такая хорошая пословица, — сказал он, и тонкие губы его искривились в холодной улыбке. — «Цыплят по осени считают». Вы забыли, что к Хмельницкому идет Карач-мурза с татарами? Пусть врет перебежчик, что их, как травы, не счесть, а все-таки их, наверное, немало. Вы забыли, что с тыла на нас наседает Кривонос со своими повстанцами. Мой разъезд захватил двоих. Говорят, им на помощь пришли отряды даже с Белой Руси. А я хорошо знаю, на что способна чернь, поэтому не вижу причин для веселья. Наоборот!
Трезвый голос Вишневецкого подействовал на всех, как ушат холодной воды. Многим, верно, вспомнился хитрый маневр запорожцев под Корсунем, когда попали в плен коронные гетманы Потоцкий и Калиновский, которые до сих пор томились у татар. Хорошо знали они и о самоотверженности украинских и польских повстанцев, силы которых с каждым днем увеличивались; видели они распри между военачальниками польского войска... И потому воинственное настроение стало постепенно рассеиваться. И правда, казаки хоть и понесли уже потери, особенно сегодня, но еще имели силу и без татар. А раз на подмогу идут еще татары, нужно сейчас же искать какой-то выход.
— Что же посоветуешь, князь? — растерянно спросил какой-то шляхтич.
— Если дело обстоит так, как говорит князь Иеремия, — сказал Лянцкоронский, — я бы, панове, посоветовал, пока есть время, выбраться нам отсюда, а князя Иеремию просить принять команду.
— На тебе, боже, что мне не гоже! Благодарю покорно.
Рейментари сидели, подавленные и растерянные. Только Остророг поднял бокал и нарочито бодрым голосом выкрикнул:
— Мои панове, не каждая тактическая победа приводит к стратегической победе. Тут имеет значение природа войска. Войско случайное, собранное на одну кампанию, вот как чернь у Хмельницкого, не способно закрепить достигнутые успехи. Итак, панове, смело пейте ваше вино!
Было уже далеко за полночь, когда в польском лагере раздался истошный крик: «Повстанцы!» Лагерь спал, месяц зашел за тучи, стало темно. Испуганный выкрик повторился уже в другом месте, и лагерь зашевелился, заметался, передавая из уст в уста только одно слово: «Повстанцы!»
Казак Пивень проснулся от топота конских копыт. Ему приснился страшный сон: будто Николай Потоцкий зацепил его крюком за ребро. Хорошо, что подоспели повстанцы и сняли его с крюка... Наконец он пришел в себя: вокруг стоял приглушенный, но неумолкающий крик, все бежали в одном направлении. Первое, о чем подумал Пивень, — это что надобно спасаться. Он помнил, как было на Старице; когда казаки пошли в атаку на польский лагерь: поручик, охранявший с жолнерами пленных казаков, боясь, чтобы они не убежали, всех перебил. Он растолкал одного соседа, другого: